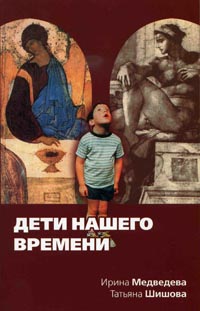
Ирина МЕДВЕДЕВА, Татьяна ШИШОВА
Дети нашего времени
По благословению епископа Саратовского и Вольского ЛОНГИНА
© Издательство Саратовской епархии, 2007
Содержание
Князь Курбский как первый русский невозвращенец
«Мой отец был очень мягким человеком»
Итоги предательства. Истоки надежды
«Белая книга» нового русского детства
Памяти
Александра Николаевича
Радищева
посвящаем эту книгу
От издателей
Предлагаем вниманию читателей еще одну книгу Ирины Медведевой и Татьяны Шишовой — авторов, уже знакомых по ряду работ, опубликованных нашим издательством, известных детских психологов, педагогов, драматургов, членов Союза писателей России.
«Дети нашего времени» — попытка объективно взглянуть на проблемы детства в России конца ХХ — начала ХХI века, а точнее — на процессы становления личности в преломлении нашей постсоветской действительности, отнюдь не простой и не безоблачной. Условно говоря, это «портрет» сегодняшнего юного поколения «на фоне…». На фоне времен, событий, нравов — то есть на том фоне бытия, который фактически является созидающим и определяющим самосознание каждого конкретного человека, а следовательно, и общества в целом.
Книга состоит из двух частей. Первая включает статьи, в которых авторы рассуждают о воздействии объективных социально-экономических и политических процессов на психологию нашего общества и на то, как это впоследствии может сказаться на формировании души и — шире — на всей будущности юных граждан.
Время спешит, меняются декорации и лица, и то, что казалось устойчивым и непоколебимым, низвергается и исчезает, уступая место совершенно иному, подчас противоположному. За относительно короткий период времени, всего-навсего за каких-нибудь 10–15 лет, наша страна довольно резко изменила курс своего «исторического плавания», полным ходом направляясь в область под названием «Капитализм». Преобразовалась цель, не могут не преобразоваться и средства, приближающие к ней. На практике это означает трансформацию образа жизни социума вообще и каждого индивидуума в частности — людям поневоле приходится адаптироваться к реформам, которые вносят они же сами. Любые перемены в государстве вынуждают человека корректировать по ним и свою личную жизнь со всем, что в ней есть: от материального наполнения до собственного мировоззрения, традиций и привычек (хотя в нашем случае процесс такой «коррекции» можно назвать, скорее, ломкой). В чем же заключаются изменения сознания и психологии людей и каковы причины, подталкивающие к этому? — Часто, чтобы лучше понять и найти объяснение той данности, которая имеется на сей день, приходится оглянуться назад и рассмотреть события, которые уже можно отнести к истории.
Должно быть, немалому числу читателей вспомнится горьковатый привкус жизни и событий не так давно минувших дней, о которых пишется в этой книге... Советская «стабильность», лживость и лицемерие «эпохи застоя»; перестройка с ее «ветрами перемен», принесшими не только «свежие потоки воздуха», но и много сора и грязи; постперестроечные годы, начавшиеся развалом Союза; «кровавый» октябрь 93-го; жестокие междоусобицы — война в Чечне и бесконечные локальные конфликты, вспыхивающие то в одной, то в другой точке России, серии бесчеловечных терактов; демократические реформы, нововведения и преобразования; нестабильность экономики, «шоковая терапия» и кризис власти; усиление влияния Запада — вот тропинки, напрямую ведущие к столь неутешительным итогам дня сегодняшнего. А итоги… Катастрофическое расслоение и криминализация общества; постепенная деморализация и потеря нравственных ориентиров, извращение идеалов и ценностей; пропаганда и усиленное внедрение западной психологии, чуждой русскому духу и культуре; школьные программы, растлевающие душу с самого раннего возраста; до последнего времени — политика планирования семьи, фактически направленная на уменьшение рождаемости…
И вполне очевидно, что главные потерпевшие в этой трагической круговерти — дети. Дети как самые восприимчивые, незащищенные, уязвимые и зависимые от окружающего мира члены общества. Авторы бьют тревогу: дети — это будущее, а, сея в души плевелы, что можно пожать? заменяя истинное извращенным и суррогатным, во что можно верить и на что надеяться?..
Однако создатели этой книги не ставят целью озадачить читателей недоуменными вопросами или напугать апокалипсическими картинами конца, но пытаются, анализируя влияние прошлого нашей страны на настоящее, рассмотреть возможный исход из кажущейся тупиковой ситуации. Выход есть, и он вполне однозначен — выздоровление, сохранение и развитие нашего общества, да и государства вообще, возможно лишь при восстановлении во всей полноте сложенного веками архетипа русского человека, при возрождении подлинной духовности. А главная надежда в этом возлагается на Православную Церковь и ее духовенство, равно как и на тех людей, которые ощущают себя «частью традиционной русской культуры, не мыслят без нее жизни и потому готовы ее защищать, как саму жизнь», на тех, кто способен воспринять вновь и впитать исконную веру, неложные духовные ценности, присущие русскому человеку, восстановить утраченные традиции,— как раз именно они и обладают, по мнению авторов, так называемой пассионарностью, то есть той глубинной силой и той крепостью духа, которые могут стать энергией преобразующей и созидающей. Авторы уверены, что именно этим новым «пассионариям» уготовляется роль главной движущей силы «спасительной революции», которая без крови и жертв и не в одночасье, а постепенно выведет Россию из нравственного, демографического и социального кризисов,— той «революции», которая и станет истоком возрождения нашего Отечества.
Вторая часть книги состоит из целого ряда непридуманных историй: скорбная правда сегодняшнего бытия, с которой авторам пришлось столкнуться непосредственно,— в рассказах о четырех-пятнадцатилетних. Этим детям уже в таком юном возрасте потребовалась психологическая помощь, хотя, в общем-то, большинство из них — сыновья и дочери вполне благополучных, обеспеченных родителей. Авторы подчеркивают, что намеренно обратились к примерам из жизни семей отнюдь немаргинальных слоев общества, чтобы показать, «как же худо обстоят дела, если даже благополучие теперь выглядит так».
Описанные случаи лучше и убедительнее всяких слов иллюстрируют драматизм современной жизни, который невозможно прикрыть или приукрасить никакой мишурой: почти в каждой истории — боль и слезы, отнятое детство, исковерканная или поломанная судьба маленького человека, ставшего невольным заложником неумолимого «духа времени». Таковы кирпичики, из которых сегодня слагается здание общества будущего…
Книга написана настолько живым, образным и ярким языком, что вряд ли кто-то из читателей останется равнодушным к этой, увы, наболевшей и весьма актуальной теме — «детство сегодня». И, безусловно, сопереживая глубокому беспокойству самих авторов за настоящее и будущее наших детей, а значит, и нашего государства, невозможно не задуматься серьезно над ответом на вопрос: а что могу сделать я, чтобы хоть что-то изменилось к лучшему, чтобы появился хоть какой-то намек на просвет? Какова же моя посильная лепта? Между строк читается призыв — не молчать, не оставаться в стороне, не успокаиваться, оправдывая своей немощью попустительство злу!
И нужен настоящий ответ. «Ответ, который будет проекцией ответственности».
…Итак, пройдет еще десять, пятнадцать лет… Дети нашего времени — какими они будут?.. что с ними будет?..
Смотри всегда на сердца сограждан.
Если в них найдешь спокойствие и
мир, тогда сказать можешь
воистину: се блаженны.
А.Н. Радищев
Вступление
Замысел книги возник у нас довольно давно, но, видимо, неслучайно мы взялись за нее только сейчас. То, что вчера лишь смутно проступало как очертания монумента, с которого еще не сняты покровы, теперь видно достаточно отчетливо. Покровы спали, многие вещи наконец названы своими именами. Это, с одной стороны, облегчает разговор, поскольку не приходится тратить время и силы на доказательство очевидного, а с другой — делает его более интересным, так как дает возможность заглянуть глубже, попытаться угадать то, что до поры до времени скрыто, однако неизбежно проявит себя. И может быть, даже раньше, чем мы думаем.
До последнего времени мало кто откровенно говорил, что в нашей стране строится капитализм. Сначала это называлось «обновленным социализмом», «социализмом с человеческим лицом», потом именовалось «рынком», «рыночными отношениями», «построением демократического государства», «реформой» и прочими эвфемизмами. Ныне о капитализме говорят открыто и уверенно как о некоей данности и спорят уже о его разновидности: какая модель, какой путь, какой вариант более приемлемы для России? И в этой связи звучит тема «особого русского пути». Одни говорят об этом с надеждой, другие с раздражением: дескать, все у нас не как у людей. Но факт остается фактом: скоро о национально-культурном своеобразии не будет говорить только ленивый или «мальчик наоборот», которому просто в силу своего характера противно петь в общем хоре. Но «особый русский путь», при всей справедливости и внутренней оправданности этого термина,— лишь новый эвфемизм, ибо за трогательным внешним единодушием скрывается все та же, если не бОльшая, чем в период «всенародного обсуждения» перспектив построения «нового общества», многоголосица мнений.
Пожалуй, нигде так причудливо не переплетаются воззрения и пристрастия разных эпох, как в пресловутом «русском вопросе». И пристрастия играют здесь главенствующую роль. «Стань таким, как я хочу!» — пелось в известной песне шестидесятых годов, и это, на наш взгляд, можно назвать сейчас лейтмотивом рассуждений о будущем страны. Кто-то хочет видеть в России монархию (и себя, разумеется, на одной из верхних ступенек иерархической лестницы), кто-то американско-шведско-финскую модель, помноженную на русский размах (в газетах очень любят рассказывать про то, как, приезжая за границу, «новые русские» заказывают все самое дорогое и потрясают европейцев своими тратами; в одном издании даже было написано про бизнесмена, который тратит по десять тысяч долларов в... час!). Кто-то представляет себе патриархальную лепоту и, не уточняя реалий, мечтает вернуться в золотой век. Спектр мнений, разумеется, этим не исчерпывается, но, наверное, и сказанного довольно.
Мы же попытаемся вглядеться в уже существующее, народившееся, трансформировавшееся и попытаемся понять его независимо от того, нравится оно нам или не нравится. А главное, попробуем предугадать, куда же все это вырулит и какие мины заложены в настоящем (если, конечно, заложены). Объектом нашего исследования будут дети. Но не только те, которых приводят к нам на психологическую консультацию в социально-психологический центр — иначе нам можно будет бросить упрек, что мы распространяем наблюдения за патологией на все общество (хотя о стремительном росте невротизации и психотизации в последние годы говорят психиатры, социологи и многие другие специалисты).
Особенно пристально мы будем смотреть на детей богатых, преуспевающих родителей. И вот почему. Мы уже не раз и не два слышали, что стремительное социальное расслоение вскоре приведет к возникновению «золотого города» на фоне «нищей деревни»: кучка богачей будет жить в четырех-пятиэтажных особняках и наслаждаться всевозможными благами, тогда как остальная, подавляющая часть населения будет ввергнута в чудовищную нищету и страдания. При этом счастье кучки не вызывает сомнений, оно аксиоматично. Однако мы все же позволили себе задаться вопросом: а так ли уж будут счастливы дети «новых русских» в российской реальности, которую — слава Богу, теперь это признают даже те, кто еще пару лет назад яростно доказывал обратное,— не удалось столкнуть с традиционных рельсов? Позволят ли им быть счастливыми русская культура, религия, почва?
Не надеемся, что эта книга всем понравится: в ней встречаются резкие оценки, затрагиваются болезненные для кого-то темы. Мы не любим разговоров о грядущей катастрофе, но с другой стороны, когда оглядываешься назад, на не такое уж далекое прошлое, начинает кружиться голова — так стремительно все происходит. Развал Союза, расстрел «Белого дома», конфликт в Чечне, начавшийся открытым кровопролитием и продолжающийся не менее беспощадными и уже неединичными терактами «из подполья», катастрофическое расслоение общества — события и явления, во многом и для многих вполне определенно ставящие точки над «i»…
В брежневские времена шутили: «Сядем в вагон, задвинем шторы и сделаем вид, что едем». Теперь тоже хочется задвинуть шторы, да только вагон действительно едет. И не просто едет, а стремительно несется. А вот под откос или нет — во многом (хоть и не во всем) зависит от нас с вами. Мы, во всяком случае, в это верим.
Уроки песочницы
Любая эпоха возлагает большие надежды на молодежь. В переломные же периоды эти надежды перерастают в упования. «Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым». Капитализм, правда, при всем желании молодостью мира не назовешь (в Нидерландах, например, буржуазная революция победила в XVI веке), но вторая часть лозунга нисколько не утратила актуальности. И в печати, и по телевидению, и с трибун, и в личных разговорах уже несколько лет звучит «молодежный лейтмотив», который обобщенно можно сформулировать примерно так: «Когда подрастет не порченное заразой социализма поколение и у руля политики, экономики, культуры станут люди, воспитанные без этих ложных позавчерашних идеалов, вот тогда в России начнется нормальная жизнь».
Кажется очень убедительным. И если посмотреть невооруженным глазом на сегодняшних детей, увлеченных компьютерными играми, представляющих себя то ниндзей-черепашкой, то Бэтменом, не хлопающих, а свистящих и улюлюкающих перед началом спектакля в кукольном театре, можно подумать, что это и вправду «племя младое, незнакомое». Настолько незнакомое, что ему даже трудно сказать «здравствуй» — с языка как-то само слетает слово «привет».
А уж когда слышишь вопросы типа: «Кто такие пионеры?» или «А Ленин действительно был антихристом?», последние сомнения улетучиваются. Да... «Им жить при...». Ну, в общем, при очередном заветном «-изме». Лозунг старый, только «-изм» новый. Ну, и, пожалуй, интонационный акцент поменялся — жирное ударение на первом слове: дескать, не вам, ископаемым, а им, молодым.
Обычно, говоря «видно даже невооруженным глазом», подразумевают, что уж вооруженным-то тем более. Будем считать, что наша тема в этом смысле исключение. В данном случае «вооруженным глазом» можно увидеть не то же самое с еще большей отчетливостью, а нечто другое.
Часто общаясь с детьми разного возраста, мы вновь и вновь убеждаемся в том, что они на удивление «старые», наши новые дети. Впрочем, нас это уже и не удивляет. Ну скажите, кто, где, в какой пробирке будет выращивать «совсем другое» поколение? И на каком «питательном бульоне»?
Пока что дети воспитываются не в пробирке, а дома, в детском саду, в школе. Крупнейшие психологи, в том числе Юнг, Пиаже, Выготский, Узнадзе, писали о колоссальном значении установок, полученных в раннем возрасте. Такие установки вполне сопоставимы с понятием «импринтинг» — «первообраз». Существуют не только зрительные, слуховые и осязательные импринтинги, но и этические. Вытесняясь вместе с ранними воспоминаниями, этические первообразы (как, впрочем, и воспоминания), вытесняются не вовне, а вглубь. На дно человеческой памяти, в сферу бессознательного. Что это означает на деле? А то, что человек иногда может не понимать, почему он поступает так, а не иначе, почему не в силах через что-то перешагнуть, что-то совершить, откуда идут импульсы, побуждающие его с легкостью делать одно и упорно мешающие делать другое.
А какие установки получает у нас ребенок, когда он еще «пешком под стол ходит»? Каковы его первые опыты социальных контактов? Вот типичная сценка в песочнице.
Малыш двух-трех лет хватает понравившуюся ему чужую игрушку. Хозяин игрушки, тоже малыш, пытается отобрать ее, и когда попытка заканчивается неудачей, с ревом бежит к маме. Но первой, как правило, реагирует мать обидчика.
— Отдай немедленно! Это не твое! — кричит она и тут же начинает оправдываться перед мамой обиженного: — Полно своих машин, и такая тоже есть. Только что купили. Вечно ему чужое надо схватить!
— Да пускай поиграет,— поспешно отвечает вторая мама и пытается увещевать плачущего сына: — А ты не жадничай. Он поиграет и отдаст. Надо делиться, ты же добрый мальчик.
Первая мама роется в сумке, достает машинку или конфету, протягивает ее малышу.
Вторая мама — первой:
— Ой, да не надо! Да что вы!
А своему ребенку:
— Вот видишь? Ты поделился, и с тобой делятся.
И обе женщины, довольные своими педагогическими талантами и друг другом, улыбаются.
Вроде бы пустяковый эпизод, а при этом в нем заключены важнейшие этические коды. Что же сообщается детям? Прежде всего то, что жадность — это порок и что всем обязательно надо делиться. Кроме того, щедрость вознаграждается, причем не запрограммированно, не рационально (ты — мне, я — тебе), а свободно, по велению души. Ведь конфетку обиженный ребенок получил не от своей мамы в качестве педагогического поощрения и не по предварительному договору с чужой матерью (ты моему сыну машинку, а я тебе конфетку). Это произошло неожиданно, спонтанно и вместе с тем как-то очень естественно.
С другой стороны, нельзя сказать, что детям не прививается понятие «свое — чужое». Обратите внимание, первая реакция матери маленького «экспроприатора» — пресечь посягательство на чужую собственность («Отдай немедленно! Это не твое!»). Но интересно, что ответная реплика («Да пускай поиграет») тормозит возвращение собственности в руки хозяина. Как правило, взрослые не торопятся выхватить отнятую игрушку. Скорее всего, она будет сразу же возвращена хозяину лишь в том случае, если он среагирует не просто негативно, а бурно негативно — допустим, забьется в истерике. И скорее всего, такая реакция вызовет всеобщее недовольство (в том числе и недовольство его матери, которой станет стыдно за сына-жадюгу).
Мысленно слышим саркастический вопрос:
— А в других странах, по-вашему, детей не приучают делиться? Это только у нас, да?
Нет, конечно. Мы не знаем культуры, которая бы восхваляла и воспитывала в детях жадность (как и вообще любые пороки). Но суть в акцентах, оттенках, нюансах. Одно дело воспитывать щедрость, а другое — разумную доброту. Можно призывать снять с себя последнюю рубашку, а можно — отдать излишек. Скряги и скупцы осмеиваются в самых разных культурах, но, согласитесь, также и расчетливость и бережливость не у всех народов фигурируют в числе главных добродетелей. Помните? Слова про «умеренность и аккуратность» Грибоедов вложил в уста Молчалина — героя, отнюдь не вызывающего симпатий читателя.
Но вернемся к сценке в песочнице, наблюдая которую мы оценили поведение матерей как совершенно правильное, что называется, педагогическое, и попробуем представить себе, какую оценку дали бы ей «независимые наблюдатели», следующие другой этике.
Скажем, протестантской. Им бы поведение взрослых, вероятно, не показалось бы столь безупречным. Прежде всего, они вряд ли одобрили бы вялую реакцию матери обидчика, которая ограничилась словесным замечанием, а не поспешила отнять у сына чужую игрушку. С другой стороны, их могли бы неприятно поразить слова: «Вечно ему надо чужое схватить», ведь в культурах, в которых осуждается малейшее посягательство на собственность, это очень тяжкое обвинение. В рамках протестантской этики куда тактичнее прозвучала бы фраза типа: «Не понимаю, что на тебя сегодня нашло?», подчеркивающая случайность, неожиданность происшедшего.
Но вот что особенно интересно. Быть может, наибольшие нарекания вызвала бы другая мать, которая, с нашей точки зрения, повела себя в данной ситуации безупречно. На ее глазах по отношению к ее ребенку был грубо попран закон, который по-английски кратко можно сформулировать словом «privacy», а по-русски даже трудно перевести (на что уже не раз обращали внимание наши публицисты). Скажем так: privacy — это неприкосновенно-интимно-собственное. А мать? Она же еще и «баллон катит»! — «А ты не жадничай!». Хотя при чем же тут жадность? Он протестует против посягательства на свою собственность.
Но «промахи» матери на этом не кончаются. Мало того, что она не помогает сыну вернуть игрушку, так еще и совершает откровенное насилие над его волей. Какова ее последняя реплика? «Ты поделился, и с тобой делятся». А ведь он ее не уполномочивал за себя решать. Он — не поделился! Она за него все решила и насильно назначила его щедрым. Разве это не нарушение прав ребенка?
Мы разобрали здесь два столь разных подхода к одной и той же ситуации вовсе не для того, чтобы определить, «кто самее». Нам хотелось на простом примере показать другое: глубинные, архетипические различия культур проявляются буквально на каждом шагу, начиная с первых шагов ребенка. И очень многое в жизнеустройстве целого общества, государства, в структуре власти и т. п. есть отражение, пусть в более сложном виде, таких вот архетипических моделей поведения.
И под этим углом зрения как-то особенно отчетливо видишь, насколько тщетны попытки кардинально реформировать жизненный уклад огромного народа. Для этого необходимо произвести полную трансплантацию, стопроцентную замену культурной ткани, то есть надо завести (или завезти?) другой народ. Даже если не касаться нравственных аспектов подобной операции, стоит задать себе хотя бы такой вопрос: а реально ли это?
— Да все это натяжки! Мы никогда не станем американцами. Этого смешно бояться,— такие восклицания мы слышим всё чаще и чаще.
Характерно, что они исходят главным образом от тех людей, которые не так давно восклицали прямо противоположное и всюду приводили Америку в качестве примера для подражания, а еще раньше, до сожжения партбилета, так же пылко рассказывали об очереди безработных за бесплатной похлебкой и о том, что Нью-Йорк — город контрастов. Короткая память этих людей просто гротескна.
Но когда начинаешь разбираться, в чем, по мнению таких людей, заключается особый, ни на чей не похожий путь России, то вскоре понимаешь: первоначальные планы по трансплантации не отринуты. Просто они в ходе операции претерпели некоторые изменения. А именно: больному решили оставить кожу. Дескать, не надо волноваться, ваших традиционных ценностей — valenki, matrioshka, vodka — у вас никто не отнимет. Пожалуйста, пляшите в кокошниках, пойте фольклорные песни, возрождайте народные игры, праздники, обряды. А уж кое-какие внутренние органы — не обессудьте — придется пересадить. Смелый, конечно, эксперимент, больной может и помереть, но ничего не попишешь, без этого у России нет будущего.
А что такое в данном случае пересадка внутренних органов? Это попытка кардинально изменить систему отношений в обществе. И прежде всего отношений собственности.
Корысть и profit
Сегодня довольно часто можно услышать, что в нашей стране нет и не было уважения к частной собственности и отсюда, мол, многие беды. Даже в современной детской книжке читаешь про некую сказочную страну «Дайнию», где живут «дайки» (или «дайкИ» — по аналогии со словом «совки»?), которые только просят, вымогают, отнимают. Обращаясь ко взрослому читателю, литераторы и общественные деятели уже безо всяких иносказаний, вполне прямо и откровенно заявляют, что в советское время все жили по принципу «Отнять и поделить».
Но даже из приведенного в предыдущей главе простого «детского» примера ясно, что понятие «свое — чужое» в России существует и внушается людям с самого нежного возраста. Другое дело, что русское и западное представления о собственности не идентичны. Во-первых, собственность в России не священна. И так было задолго до большевиков. Почитайте «Письма из деревни» помещика А.Н. Энгельгардта, считавшегося большим знатоком русской деревни и крестьянства,— там об этом говорится прямо и доходчиво. А вот и еще более выразительная цитата. «Горе — думается мне — тому граду, в котором и улица, и кабаки безнужно скулят о том, что собственность священна! Наверное, в граде сем имеет произойти неслыханнейшее воровство!» — это сказал отнюдь не классик марксизма, а М.Е. Салтыков-Щедрин.
Европейцу его высказывание наверняка покажется парадоксальным и даже абсурдным. Что за нелепость? Как это может быть? Раз собственность священна, то это как раз и есть надежный заслон от воровства. Или уж во всяком случае не стимул к его процветанию.
А вызовут ли удивление слова великого сатирика у наших читателей? Думаем, вряд ли. Особенно сейчас, когда реальность служит прямо-таки идеальной иллюстрацией его мысли. Представителям русского менталитета и без объяснений понятно, почему разговоры про священную частную собственность служат в России дымовой завесой для безбожного воровства. Но мы все же вкратце поясним. В православной культуре (в традициях которой мы все воспитаны независимо от степени религиозности или даже отсутствия оной) естественно благоговение именно перед духовными святынями, а поклонение материальным ценностям (в том числе собственности) является язычеством, идолопоклонством. Что такое собственность, как не золотой телец? А что такое золотой телец, как не идол? Ну а коли идол сакрализован, обожествлен, следовательно, истинного Бога нет. С отменой Бога отменяются и его заповеди. А ведь одна из десяти заповедей гласит: «Не укради»!
Вторая важная характеристика: отношение к частной собственности в России не абсолютизируется. Иными словами, отношение к собственности связано с ее происхождением. Известное изречение Веспасиана «Деньги не пахнут» в нашей культурной системе не работает. Здесь деньги пахнут, и совсем немаловажно, пахнут ли они трудовым потом или нечестной наживой. «От трудов праведных не наживешь палат каменных»,— гласит известная пословица.
Вообще, язык — одно из ярких, точных и глубинных отражений коллективной психологии. Он может служить прекрасным тестом для диагностики истинного отношения народа к тому или иному явлению жизни. В русском языке существует множество отрицательно окрашенных слов, связанных с понятием прибыли: «нажива», «барыш», «куш», «барыга», «барышник», «деляга», «делячество», «торгаш», «выгадывать», «наживаться», «набивать карман».
Это отношение выражено и в пословицах: «Маленькая бережь лучше большого барыша», «Лучше с убытком торговать, чем с барышом воровать», «Не для барыша, ради почина», «Неправедная нажива — не разжива», «Не до барыша, была бы слава хороша», «Неправедная нажива — огонь», «Правдой жить — ничего не нажить».
А вот, казалось бы, вполне нейтрально звучащее местоимение «свой». Раскроем словарь Даля. Среди прочих значений указывается: «Свое — природное в человеке, нравственная порча, пороки, самые страсти, собь, все, что должно быть побеждено духом для возрожденья»(!).
«Собь», как вы понимаете, и есть корень слова «собственность». Ну-ка, посмотрим, как трактовалось это слово у того же В. Даля задолго до Октябрьской революции и даже до отмены крепостного права (мы цитируем издание 1855 года): «Собь — все свое, имущество, животы, пожитки, богатства; свойства нравственные, духовные и все личные качества человека, особенно все дурное (выделено нами.— Авт.), все усвоенное себе по дурным наклонностям, соблазнам, страстям». А слова «собливый, собчивый, собистый» обозначают «корыстного скопидома, скопляющего себе собинку».
То есть даже в нейтральном слове «собственность» спрятан отрицательный оттенок!
Для сравнения возьмем английское слово «property» (собственность). Цитируем по словарю Миллера: «Property — имущество, собственность, поместье, имение, достояние, свойство, качество... proper — присущий, свойственный, правильный, должный, надлежащий, подходящий, пристойный, приличный (proper behaviour — хорошее поведение), точный, истинный, совершенный, настоящий, красивый». Не обязательно быть ученым-лингвистом, чтобы уловить ярко выраженный положительный оттенок двух этих английских слов.
А слово «корысть», имеющее в русском языке бесспорно отрицательный привкус, переводится нейтральным advantage, profit — «преимущество, прибыль».
Еще раз повторяем (хотя, честно признаться, нам уже надоело оправдываться, равно как и твердить, что, говоря «русский», мы имеем в виду не кровь, а культуру), наш анализ не ставит перед собой задачу оценить, что лучше, что хуже, кто прав, кто виноват. Но нельзя же не видеть живой реальности, и в угоду очередной утопии, очередному фантому в очередной раз эту реальность корежить!
Нам могут возразить:
— Ну сколько же можно идеализировать эту пресловутую русскую культуру? А то в России не было богатейших дворцов, поражавших своим великолепием иностранных гостей? И рядом — нищий, голодный народ... А что касается языка, то здесь наблюдается некоторая предвзятость. Например, вы благополучно позабыли пословицу: «Своя рубашка ближе к телу». Или ее не существует?
Почему же? Существует. Но тогда надо вспомнить и контекст, в котором она обычно употребляется. Когда человек не проявил должного бескорыстия, тогда, вздыхая, с оттенком сожаления говорят: «Что поделаешь? Своя рубашка ближе к телу».
Ну а насчет дворцов и хижин... Мы никогда не говорили о существовании в России идеального общества. Но какие в обществе этические установки, какие идеалы, немаловажно для хода истории. Что, кстати, и показала печальная история обитателей дворцов в 1917 году.
Причем установки, если пользоваться геологической терминологией, бывают разной глубины залегания. И важность глубинных пластов бессознательного признают сегодня психологи самых разных школ и направлений.
Очень интересное наблюдение мы сделали в Германии. Нам пришлось там много общаться с интеллигенцией. На уровне сознания все они были выраженно левыми: возмущались засильем капитала, расслоением общества, смеялись над убогими интересами буржуазии. Да и русские эмигранты, с которыми мы там сталкивались, говорили, что немецкие интеллектуалы если не красные, то уж, во всяком случае, ярко-розовые. Однако интересное наблюдение заключается вовсе не в этом, а вот в чем: когда те же самые люди, которые пять минут назад выступали против социальной несправедливости, заговаривали о своих друзьях или знакомых, подходящих под категорию богатых, они неизменно понижали голос и с явным почтением произносили: «He is very rich» («он очень богатый» — мы общались по-английски). Это было не один, не два, не три раза, и голос понижался автоматически, и в глазах появлялась какая-то детская зачарованность — так, наверно, заглядывали в окна богатого дома Тильтиль и Митиль из «Синей птицы» Метерлинка. И мы понимали, что этот благоговейный шепот исходит из самых глубин души, отражая определенную бессознательную установку.
Для сравнения предлагаем представить себе, будет ли говорить шепотом и с придыханием о своих богатых знакомых наш человек, возмущающийся, как и немецкие интеллигенты, социальной несправедливостью. Конечно, бывает, что, кляня богачей, люди им втайне завидуют. Но это отнюдь не «белая зависть». Она окрашена ярко отрицательно и несет в себе большой заряд агрессии — эмоции, несовместимой с пиететом. То есть даже глубинная установка на богатство — это как бы антиидеал, или, по выражению Льва Гумилева, «субпассионарное» проявление.
В прочности традиционных установок мы постоянно убеждаемся, работая с детьми, находящимися в пограничных состояниях психики. А таких детей за последние годы побывало у нас в центре множество — около пятисот человек. Учитывая, что мы тесно общаемся не только с детьми, но и с их родителями, бабушками и дедушками, число респондентов можно смело увеличить минимум до полутора тысяч. Так вот, мы наблюдаем очень показательную картину. На уровне сознания и взрослые, и даже дети прекрасно понимают роль денег и деловой хватки в современной жизни. Вчера еще полуюмористическое «Хочешь жить — умей вертеться» сегодня воспринимается как вполне серьезный императив. Фактически это стало залогом выживания. Причем такая ситуация длится уже не месяц и не год и, по идее, могла бы повлиять на изменение ценностных ориентиров. К примеру, перечисляя положительные черты характера ребенка, родители должны были бы в духе времени указывать на практичность, бережливость, деловитость, желание пробиться, стать первым, интерес к бизнесу, в конце концов! Но — нет! Вместо этого пишут: «Добрый», «Ничего не пожалеет», «Отдаст последнее». Что же касается желания быть первым (совершенно необходимого в условиях рыночной конкуренции), то тут вообще парадокс: это перечисляется в ряду главных недостатков, для искоренения которых родители и обращаются к специалистам. За все время нам встретилась только одна мама, которая среди достоинств своего сына указала (цитируем дословно): «Хочет быть богатым». Однако в ряду недостатков назвала жадность и уточнила: «Любит копить деньги, никогда ничем не поделится». Подчеркнем, что при этом среди родителей встречается немало сторонников либерально-рыночных отношений.
Ну, хорошо. Взрослые, они все-таки формировались в другое время. Может, у новых детей уже все по-иному? Более сообразно «историческому моменту»? В анкете, которую мы предлагаем детям, есть вопросы, позволяющие сделать выводы относительно ценностных установок: «Какие качества ты хотел бы приобрести?». Далее: «От каких недостатков желал бы избавиться?». Наконец: «О чем ты мечтаешь?».
Конечно, дети мечтают о красивых и модных игрушках (как, впрочем, было всегда). Но никто ни разу не написал о желании разбогатеть, стать миллионером, владельцем «заводов, газет, пароходов» и т. п. Или нет... И тут не обошлось без исключения. Одиннадцатилетний подросток так прямо и написал: «Хочу иметь много денег». Правда, привели его к нам с жалобой на регулярное воровство в довольно крупных размерах. Хотя, кто знает? Может, случайно совпало...
Среди качеств, которые дети, наоборот, хотят приобрести, в первую очередь фигурируют смелость и доброта. Опять же ничего нового.
Предвидим законное возражение:
— Распространять на всех детей данные, полученные в группе риска, это, знаете ли, очень сомнительно с точки зрения научной достоверности. Вы ведь имеете дело с детьми нервными, у которых хрупкая, сверхранимая психика.
Но в том-то и суть, что у таких детей размыты традиционные этические границы, и мы, кстати, добиваемся хороших результатов в работе с ними (то есть возвращаем их к норме) как раз благодаря восстановлению этих границ. Желания и мечты детей-невротиков действительно разнятся с желаниями и мечтами психически прочных детей. Но знаете в чем? В том, что мечты первых инфантильнее, эгоистичнее и прагматичнее. Мы давали такие же анкеты обычным детям и обнаружили, что у них мечты очень рано перемещаются в сферу идеального. Уже шести-семилетний ребенок понимает, что игрушки и прочие «материальные ценности» — дело наживное, и говорит, что попросил бы фею или доброго волшебника о другом: чтобы родители никогда не ссорились, чтобы люди (или хотя бы близкие) не умирали, чтобы на свете не было несчастных и злодеев, чтобы стали возможными путешествия во времени.
А еще — и это уж, безусловно, веяние времени — ребята постарше, совсем как героиня «Пяти вечеров», мечтают о том, чтобы не было войны.
Новое время — новые песни
Когда «процесс пошел» и не только пошел, но и довольно широко развернулся, бывает интересно оглянуться назад, вспомнить его истоки. С чего начиналось? Каковы были первообразы новой реальности? «Из всех видов искусства важнейшим для нас является кино»,— в отличие от многих других ленинских фраз эту идеологи новой жизни явно не забыли. Давайте попробуем ответить на вопрос, какие фильмы эпохи перестройки можно назвать установочными. Прежде всего, разумеется, «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. Власти позаботились о том, чтобы этот фильм посмотрела вся страна. И акция была проведена грамотно, с учетом законов массовой психологии: на фоне непрекращающихся разговоров о грядущем запрещении и даже уничтожении фильма повсюду — на предприятиях и в учреждениях — организовывались его массовые просмотры. В результате множеству людей были даны две установки. Первая: что нужны, то есть имеют право на существование только те улицы, которые ведут к Храму (в трактовке публицистов и политиков он был очень скоро заменен рынком — так поначалу замаскированно называли капитализм). И вторая — на самом деле, как нам кажется, превалирующая,— что прах вовсе не святыня. И прах не абстрактный, а более чем конкретный — прах собственного деда. Очень многое из того, что происходило впоследствии, подчинялось именно этим двум установкам.
Другим, не менее установочным фильмом, стал, пожалуй, фильм «Асса». Мы сейчас не будем обсуждать, случайно так получилось или это закономерно. Важно то, что после осуждения старого пути общественного развития возникла потребность в определении новой траектории. И не только траектории, но и наиболее активной, не скованной предрассудками и устаревшими моральными нормами социальной группы, которая побежит «впереди паровоза». Что ж, она нашлась довольно быстро, и теперь все общество расхлебывает последствия случившегося.
Было бы очень странно, если бы в такой ответственный момент, как переход к иному строю, забыли про детей. И про них действительно не забыли. Из всего огромного мира диснеевской мультипликации для первого массового показа по телевидению (а первое впечатление, как известно, оставляет в памяти глубокий след) юному зрителю предложили сериал «Утиные истории», где буквально все пропитано запахом денег. Не только сюжет (вернее, множество сюжетов, и это тоже важно) вращается вокруг обогащения, но и весь словесно-зрительный, образный ряд подчинен той же теме. Чего стоит сквозной лирический образ первой монеты, этакого талисмана или даже «ангела-хранителя» миллионера Скруджа! Или долларовый счетчик, включающийся в глазах того же дядюшки Скруджа в моменты озарения. А имена Голди (Золотце), Миллионера и наконец сам Скрудж, что в переводе значит «скряга»? А буквализация метафоры «купаться в деньгах»?! И когда все это преподносится как высшее блаженство? А высказывания типа: «Деньги — это самое главное...», «Люблю купаться в деньгах, но больше всего я люблю их считать. Чем больше считаю, тем больше люблю...», «Я везде узнАю золото. Это мой любимый цвет...», «С этой жемчужиной я мог бы почувствовать, что значит быть богаче, когда ты уже богат».
Или возьмем сцену, когда Скрудж делает предложение своей подруге Миллионере.
Скрудж: Давай подумаем о союзе, моя дорогая облигация.
Миллионера: О каком союзе, мой золотой доллар?
Скрудж: О союзе наших капиталов, моя милая копилочка.
Специфический юмор, не правда ли? О Скрудже хочется сказать отдельно, потому что в его лице нашим детям впервые попытались навязать нового положительного героя. Героя из совершенно иной этической системы, никоим образом не связанной с православной. Практически все, что в дядюшке Скрудже подано как положительное, с точки зрения нашей культуры отвратительно. Он скупой, расчетливый миллионер, у которого «одна, но пламенная страсть» — прибыль. Он нещадно эксплуатирует своих работников, вполне может выгнать их на улицу (и выгоняет), жалеет лишние пять долларов даже для своих племянников-утят. Он страшный педант, индивидуалист, эгоист. Но в мультфильме дядюшка Скрудж представлен очаровательным стариком, милягой. Да, со слабостями (а у кого их нет?), со смешными привычками, над которыми утята могут даже подшутить. Но это, безусловно, идеал. Современный протестантский идеал. (Именно современный, потому что столетие назад дядюшка Скрудж был бы еще и набожным.)
Разумеется, новая установка не формируется с помощью одного образа, пусть даже взятого из любимого и популярного мультсериала. Поэтому параллельно (аккурат в 1992 году) для малышей начали издаваться брошюры в виде комиксов с красноречивыми названиями: «Что такое торговля и мировой рынок?», «Что такое инфляция?», «Что такое деньги?», «Что такое банки и сберкассы?», «Зачем нам акции?», «Зачем нам инвестиционные фонды?» — самые что ни на есть необходимые знания для детей пяти-шести лет! А вот и умилительное название — «Жила-была денежка». Выбирай, что тебе нравится: академизм или сказка.
Для детей постарше перевели, среди прочих подобных, книгу американца Карла Хесса «Так устроен мир» (тираж по современным меркам огромный — 100 000 экземпляров). Именно мир, ни больше ни меньше! Поначалу кажется смешным, что под устройством мира подразумеваются здесь изложенные в популярной форме экономические принципы капитализма. (Это на фоне не прекращающихся у нас призывов к деидеологизации образования!) Но, прочитав книгу до конца, понимаешь, что в ней, пусть в очень примитивной форме, но действительно изложена модель мироустройства. Модель, по всем параметрам отличная от нашей. Не будем надолго останавливаться на многочисленных высказываниях вроде: «Американская культура — самая влиятельная в мире», «Американская Декларация независимости, а не марксистские глупости, перечитывается во всем мире», «В то время как некоторые американцы не видят у себя дома ничего, кроме мрака и упадка, люди в других частях мира взирают на США как на светоч свободы и прогресса». Хотя несколько слов все-таки скажем.
Во-первых, это образец пошлой, кондовой пропаганды. Во-вторых, ложь для совсем уж безграмотных людей. Кто «взирает на США как на светоч свободы и прогресса»? Англия? Франция? Германия? Или, может быть, боснийские сербы? Или Вьетнам, Панама, Гренада, Ирак? Да и «марксистские глупости» до сих пор волнуют умы ничуть не меньше, чем американская Декларация независимости. В Италии, к примеру, в Испании, в странах Латинской Америки и т. д.
И, наконец, главный вопрос. Зачем все эти сентенции нашим детям? Чтобы развивать в них чувство неполноценности и с малых лет настраивать на эмиграцию? «В США хотело бы переселиться большее число людей, чем в любую другую страну». Допустим, так. Но зачем внушать это российским подросткам?
Ладно. Это, можно сказать, лирика. Тут есть вещи и посущественней. Подросткам внушается, что все в мире можно и нужно рассматривать с точки зрения экономики, товарной стоимости, прибыли и т. п. Даже себя самого! «Ты здоров, потому что хорошо питаешься и занимаешься спортом. Это вложение в собственное тело», «Твоя жизнь — это твоя собственность», «Ты владелец своей жизни». Совершенно очевидно, что Богу в этой системе места нет. Отсюда, если говорить уже не о книге, а об обществе, и борьба за разрешение употреблять марихуану (мое здоровье — это моя проблема), и отмена нравственного запрета на самоубийство (в то время как с поворотом людей к религии у нас во многих семьях детям справедливо внушается, что самоубийство — грех, что человек не волен распоряжаться своей жизнью). Отсюда и многочисленные дискуссии на темы эвтаназии (добровольного ухода из жизни с помощью врача в случае смертельной болезни) или перспективы улучшения «человеческой породы» путем генной инженерии. Понятно, что все это берет свои истоки из благих намерений, и мы не будем сейчас рассуждать о том, куда ведет дорога, вымощенная ими. Повторим лишь, что в Православной Церкви взгляд на жизнь как на собственность человека безоговорочно осуждается.
Работа на благо общества в книге Хесса объявляется злом, ибо на самом деле она оказывается работой «на политических вождей». Вопрос намеренно заостряется, доводится до абсурда: «Предположим, что... другие говорят тебе, что надо работать на общество, а не на себя, и что сделанное тобой должно принадлежать всем, а ты получишь только то, что общество тебе даст. Они бы сказали, что ты не имеешь права на частную собственность. Они бы также сказали, что у тебя нет права быть личностью и решать самому свою судьбу. Все это они отняли бы у тебя!».
Оруэлл — да и только! Это значит, что вы, дорогие читатели,— в прошлом все, а многие, кто на государственной службе, и теперь (ученые, включая академиков, врачи, учителя, артисты, рабочие, инженеры, министры, даже президент!) — не личности. И частной собственности у вас никогда никакой не было (автор, кстати, включает в это понятие одежду, пластинки, книги, инструменты и т. п.), а была лишь «лагерная пайка и место у параши» — популярное клише второго этапа перестройки. Пайка, правда, при ближайшем рассмотрении оказалась не такой уж ничтожной. Например, многократно осмеянные у нас шесть соток в последние годы помогают выжить (в буквальном смысле слова) миллионам людей.
Но пойдем дальше. Разделение на богатых и бедных, допустим, естественно и разумно (поделом вам, бездельники и неумейки!). Конечно, следует оговориться: Карл Хесс — рыночник, что называется, в чистом виде. Однако ж не все прогрессивное человечество разделяет ненависть автора к налогам, субсидиям, пособиям и прочим видам материальной помощи. («Люди, работающие плохо, оказываются вознаграждены, а те, кто поработал хорошо, вынуждены платить за других».) Не правда ли, весьма любопытно, что для перевода была выбрана именно такая книга?
Особенно красноречивы, на наш взгляд, конкретные рекомендации, дающиеся К. Хессом «юноше, обдумывающему житье»: «...ты должен осмотрительно относиться к помощи родителей, если решил попробовать себя в каком-нибудь деле. Предположим, ты решил стричь газоны... Твои родители могут предложить тебе попользоваться их собственной косилкой. Это очень мило с их стороны, но тебе лучше взять ее напрокат на деловой основе. Это будет гораздо полезней для твоей последующей предпринимательской деятельности, чем если бы ты получил косилку бесплатно». Родителям же в специальной главе, разумеется, дан совет платить детям деньги за выполнение работы по дому.
Вообще, неоценимое достоинство этой книги в том, что в ней емко и лаконично дан идеальный образ члена рыночного общества: «Ты должен быть честным, упорным, заботиться о своем здоровье, развивать свои умственные способности, обдумывать каждый свой поступок, отвечать за свои слова и дела, не ныть и не плакаться, если дела идут плохо, и не хвастаться, если они в полном порядке, стараться любую работу выполнять хорошо, не бояться задавать вопросы, если ты чего-то не понимаешь».
Казалось бы, что плохого? Разве тут есть что-нибудь неправильное или тем более возмутительное? Нет, но весь вопрос в том, ради чего все это? И ответ дан тут же, в следующем абзаце: «Вырабатывай в себе эти качества, и они помогут тебе быть бережливым». А если вернуться немного назад, то мы прочитаем: «Раз ты — владелец своего собственного хозяйства и экономно ведешь его, твой главный интерес — это ты сам». А еще чуть раньше: «Словарь толкует, что бережливость — душа экономики. Эта идея родственна другой идее — процветанию. Процветание означает экономический успех и счастье».
Когда политики говорят о замене культурных кодов и культурного ядра — а именно с этих позиций стоит рассматривать распространение подобной литературы, ее ведь, между прочим, рекомендуют школам,— то для многих людей это остается пустым звуком. Именно пустым, потому что он не наполнен образным содержанием. Что такое «культурный код», «культурное ядро»? Абстракция — да и только! Слова, слова, слова. И слова нобелевского лауреата, крупнейшего ученого К. Лоренца: «Радикальный отказ от отцовской культуры — даже если он полностью оправдан — может повлечь за собой гибельные последствия»,— к сожалению, далеко не всех заставляют содрогнуться. Может повлечь, а может и не повлечь. И что понимать под «гибельными последствиями»? Надоели эти страшилки да пугалки! То от СПИДа все перемрем, то от голода. А ну их!..
А давайте попробуем примерить эти абстракции к нашей повседневной жизни, предельно конкретизируем их. На протяжении последних лет мы не раз сталкивались с людьми, которые попытались было воспитывать своих детей, руководствуясь принципами бизнес-идеологии. Результат оказывался плачевным практически всегда. Скажем, когда родители, следуя советам авторов типа К. Хесса, начинали платить детям деньги за домашний труд, отношения в семье быстро разлаживались. «Мой сын за месяц так обнаглел — никакого с ним сладу не было. Что ни попросишь, в ответ: “А сколько ты мне за это дашь?”. И за уроки стал требовать деньги, и за хождение в школу. Чуть ли не за чистку зубов таксу назначил!» — подобные признания вполне типичны.
Другой распространенный вариант: сначала родители внушают ребенку, что умный — это тот, кто умеет зарабатывать, умеет крутиться. А потом хватаются за голову: ах, какой ужас, его ничего, кроме денег, не волнует, учебу забросил, читать перестал. Только сидит перед телевизором, смотрит всякие конкурсы — все надеется выиграть... В общем, совсем свихнулся.
К сожалению, последнее — не только фигура речи. Не так уж редки случаи, когда в детском сознании происходит сдвиг — деньги, обогащение, капитал становятся настоящей идеей фикс. Нам встречались дети из вполне культурных и нормально обеспеченных семей, которые, сбегая с уроков, шли не в парк, на аттракционы, а... на помойку, чтобы насобирать пустых бутылок и, сдав их, «обрести экономическую независимость». Повторяем, это не соответствовало материальному положению семьи и потому выглядело абсолютно нелепым, неадекватным. Настолько нелепым, что заставляло родителей обращаться к психоневрологу.
Родительская фиксация на бережливости как на одном из главных достоинств приводит либо к бунту, либо к развитию у детей педантизма, жадности, даже скопидомства. Что, в свою очередь, повергает в ужас родителей, ибо они, усвоившие «новое откровение» только на уровне сознания, совершенно справедливо — с точки зрения нашей культуры — квалифицируют такие качества как проявление психической деформации. Заповедь «твой главный интерес — это ты сам», отражаясь на родителях (а в конечном счете так всегда происходит), неизменно оценивается ими как ужасающий, противоестественный эгоизм.
Это вполне понятно: несвойственные родной культуре жизненные принципы наталкиваются на жесточайшее сопротивление бессознательной сферы психики. К. Касьянова в книге «О русском национальном характере» рассказывает об очень интересном и серьезном научном исследовании, посвященном, в частности, проблеме столкновения глубинных особенностей разных культур. Она отмечает огромную устойчивость наших этнических архетипов и пишет, что «несмотря на постоянное “отклонение” интеллигентской рефлексии силовыми линиями поля западноевропейской культуры, на уровне модели поведения та же интеллигенция... реализует в полном объеме свои (выделено нами.— Авт.) “социальные архетипы”, а вовсе не западноевропейские».
Прекрасной иллюстрацией этого служит следующий пример. В какой-то момент журналисты, словно сговорившись, стали пугать общество тем, что вот-вот начнется «война всех против всех». Звучало это так, что ничего страшнее и придумать нельзя. Но у знающих людей вызывало лишь смех, ибо согласно великому философу либерализма Гоббсу, «война всех против всех» — вовсе не запредельно страшная реальность, а... один из основных жизненных принципов атомизированного, свободного общества. И даже идеал! По Гоббсу, «равными являются те, кто в состоянии нанести друг другу одинаковый ущерб во взаимной борьбе».
На уровне сознания эти журналисты приняли на ура идею построения либерального общества, но подсознание воспротивилось и сделало из идеала жупел. А они даже не заметили «неувязочку» и до сих пор пугают нас тем, к чему должны были бы призывать.
Мои первые книжки
Наверное, в эпохи «гибели богов», или, как говорят сейчас политологи, «кризиса смыслов», на опустевший престол закономерно возводится то, что вообще-то должно занимать второстепенное, служебное место. Когда на фоне краха идеологии заметно возрос интерес к явлениям психики, чуть ли не магическое значение стали придавать психологическим методикам, техникам, практикам. (Даже в непривычном множественном числе последних двух слов улавливается некий оккультный, жреческий оттенок.) Сколько раз мы слышали от педагогов и психологов, что идеология и политика их не касаются. То ли дело — обучающий семинар по какой-нибудь игровой методике, небывалой психотехнике или восточным практикам! Любопытно, что эти люди стараются отмежеваться от политики и идеологии как раз в тот момент, когда происходит смена общественно-политического строя и, соответственно, одним из определяющих факторов успеха (или неуспеха) всей затеи становится именно идеологическое воспитание детей.
А что, может, и правда?.. Может, действительно, есть надежда, подкорректировав детское поведение, преподав подрастающему поколению азы вежливости (например, в изданной несколько лет назад «Энциклопедии юного джентльмена», кроме сведений о видах секса и о правилах обращения с оружием, есть и раздел, посвященный правилам хорошего тона), добиться того, чтобы это поколение органично вписалось в жизнь, контуры которой обрисовываются уже достаточно ясно?
Давайте попробуем себе это представить. Вообразим ребенка из богатой семьи, благо, воображение напрягать особенно не придется — такие дети стали пусть малой, но частицей нашей реальности. В любой семье под тем или иным соусом заходит разговор о деньгах. Не только сейчас, так было и раньше, при социализме. Правда, тогда этот вопрос не стоял ребром — для подавляющего большинства людей речь не шла о физическом выживании. Ну и, разумеется, не вставал столь остро вопрос о бедных и богатых. Лексика — и та была иной. Не говорили: «Он из богатой семьи». Говорили: «Из обеспеченной». Короче, бедные не были такими бедными, а богатые — такими богатыми. Но теперь с ханжеством покончено, вещи называются своими именами, а принцип равенства назван утопическим и даже противоестественным. Поинтересуемся, что могут сообщить современные богатые родители своему ребенку о бедняках? (Написав последнее слово, мы вздрогнули. Еще недавно нам казалось, что все это какое-то мифическое прошлое... И снова сказку сделали былью.)
Богатые семьи, как и все прочие, конечно, разные, но думаем, что не ошибемся, перечислив основные варианты этических установок, бытующие в этой среде. Один вариант: «Бедные сами виноваты. Не зарабатывают, потому что не умеют. А не умеют, потому что не хотят. Дураки они, лентяи и пьяницы».
Второй вариант: «Бедных жалко, но что поделаешь? Так всегда было, есть и будет. А равенство — миф, фантом, выдумка большевиков. Их партийными пайками, впрочем, и опровергнутое. Помогать бедным надо... по возможности, но менять порядок вещей? Опять устраивать революцию? Абсурд!».
Третий вариант: «У них свои проблемы — у нас свои. И мир у каждого свой. В нашем мире всего этого нет. А зачем думать и знать о том, чего нет? Разве у нас мало забот, интересов, развлечений?».
Назовем эти варианты «антагонистический», «гуманистический» и «отстраненный». В их рамках, безусловно, могут встречаться те или иные индивидуальные различия, но в целом нам такой «триптих» представляется достаточно полным.
А что же объединяет эти три варианта, какая сверхидея? Есть ли она? Есть. И звучит она весьма банально: мир — для богатых! Сегодня эта сверхидея получила мощное подкрепление прежде всего, конечно, образами и текстами рекламы, видеоклипов, телешоу, многочисленных лотерей и викторин. Сладкая, сказочная жизнь оживших кукол Барби...
Но с другой стороны, у нас не перестало быть престижным давать детям хорошее образование. Скорее, наоборот, оно пользуется массовым и, мы бы сказали, ажиотажным спросом. Причем ориентация идет преимущественно на гуманитарное образование. Даже в школах с математическим уклоном литература часто находится в ряду приоритетных предметов.
Однако сейчас мы побеседуем не о школьниках, а о дошкольниках. Бытует мнение, что личность формируется в основном до пяти лет. Всё, что потом, это уже «тонкая отделка». Нам трудно согласиться с категоричностью такого утверждения, но, конечно, очень многое действительно закладывается в раннем возрасте. Обратите внимание, что читать детям вслух у нас тоже принято начинать с раннего возраста. И не столько комиксы и журналы, сколько полноценную детскую литературу. Во всяком случае, родители, которые пекутся об интеллектуальном развитии детей и намерены в дальнейшем определить их в хорошую школу, на это нацелены.
А теперь вспомним, что же за круг чтения у наших дошколят? Разумеется, народные сказки (их сейчас издается как никогда много), Чуковский, Маршак, Барто, Михалков... В общем, «мои первые книжки»... Свободны ли они от социальной тематики? Отражены ли в них три вышеперечисленные установки богатых родителей?
Самый аполитичный среди них, пожалуй, Чуковский. Но даже у него в «Мухе-Цокотухе», «Тараканище», «Бибигоне», как это ни смешно на первый взгляд, звучит архетипическая тема русской литературы — тема маленького человека. Понятие «маленький» тут даже буквализировано: «маленький комарик», «воробьишка», крохотный Бибигон...
Ну, предположим, здесь это еще сводимо к общемировым моделям волшебной сказки (Мальчик-с-пальчик, побеждающий великана). Но вот Маршака, одного из любимейших детских писателей, аполитичным уже никак не назовешь. Вспомним стихотворение «Мистер-Твистер». Вспомним пьесу «Кошкин дом», которую ставят в кукольных театрах по всей стране. Вспомним «Двенадцать месяцев», пьесу, по которой снят прелестный мультфильм — его и сегодняшние дети смотрят с удовольствием. Тема богатства и бедности звучит в этих произведениях пусть на доступном детям уровне, но вполне отчетливо. Автор выказывает не просто сочувствие бедным, но и ироническое презрение к богатым. Карикатурно-уродливые, тупые, жадные и в то же время какие-то жалкие гости Кошки (сам выбор зверей чего стоит: Козел, Свинья!) — вот образы богачей. С кем из них захочет отождествить себя ребенок из семьи нуворишей? В этих образах начисто отсутствует даже зловещая инфернальность, которая тоже может быть для кого-то притягательна. По отношению к богатым Маршак стоит на классической позиции русского интеллигента. Если вспомнить перечисленные нами «антагонистический», «гуманистический» и «отстраненный» варианты, то она всем им безусловно враждебна.
Но это еще цветочки. В нашей детской литературе существует целое направление, которое можно назвать революционной сказкой! Причем все эти произведения не утратили популярность и в последнее десятилетие. «Три толстяка» Олеши, «Королевство кривых зеркал» Гундарева, «Приключения Чиполлино» Д. Родари (он хоть и итальянский писатель, но настоящую популярность и признание получил именно у нас). А разве «Золотой ключик» А. Толстого чужд этому ряду? «Золотой ключик», где самый лучший взрослый — это бедняк папа Карло, где полицейские гоняются с собаками за Буратино, защищая интересы буржуя Карабаса, где пресмыкающийся перед богачами Дуремар ассоциируется с пиявкой, где куклы, в конце концов, устраивают бунт, побеждают и уходят в «светлое будущее», отперев дверь за нарисованным очагом... И эта дверь, символизирующая райские врата, находится в каморке бедняка, то есть бедняк тождествен праведнику. И бедняки добиваются вхождения в этот рай еще при жизни — идея весьма революционная.
И ладно бы это была халтура, книги-однодневки, написанные по социальному заказу определенного времени! Так нет же! Перечисленные нами книги — это настоящая, большая литература, хоть и для детей.
Как вы думаете, на чьей стороне будет ребенок из богатой семьи, читая, к примеру, такие строки:
«Со всех сторон наступали люди... Обнаженные головы, окровавленные лбы, разорванные куртки, счастливые лица... Это шел народ, который сегодня победил. Гвардейцы смешались с ним.
Три Толстяка увидели, что спасения нет.
— Нет! — завыл один из них.— Неправда! Гвардейцы, стреляйте в них.
Но гвардейцы стояли в одних рядах с бедняками. И тогда прогремел голос, покрывший шум всей толпы. Это говорил оружейник Просперо:
— Сдавайтесь! Народ победил. Кончилось царство богачей и обжор. Весь город в руках народа. Все Толстяки в плену.
Плотная пестрая волнующая стена обступила Толстяков. Люди размахивали алыми знаменами, палками, саблями, потрясали кулаками. И тут началась песня... Тибул и Просперо запели. Тысячи людей подхватили песню. Она летела по всему огромному парку, через каналы и мосты. Народ, наступавший от городских ворот к дворцу, услышал ее и тоже начал петь. Песня перекатывалась, как морской вал, по дороге, через ворота, в город, по всем улицам, где наступали рабочие и бедняки. И теперь эту песню пел весь город. Это была песня народа, который победил своих угнетателей».
Отрывок, конечно, катарсический. Представьте себе, с каким чувством читают эти строки дети из обнищавших семей, которых сейчас огромное число по всей России? Но даже сын реальных «толстяков» будет сопереживать девочке Суок, канатоходцу Тибулу, оружейнику Просперо и всему победившему народу. Собственно, среди героев сказки Олеши есть аналог такого ребенка — наследник Тутти, который становится на сторону бедных.
В конечном счете, никакая рациональная установка не может конкурировать с сильным художественным образом. Тем более, если художественный образ соответствует традиционным представлениям народа о добре и зле, а рациональная установка, пусть даже подкрепленная авторитетом родителей, таким представлениям грубо противоречит. Хотя, бесспорно, финал борьбы далеко не всегда сиюминутен.
А теперь вернемся к Барто и Михалкову. И добавим к ним Лагина с его «Стариком Хоттабычем», Носова с «Незнайкой» и «Витей Малеевым» Драгунского. Мы нарочно выбираем произведения, которые переиздаются сегодня, а значит, их массово читают сегодняшним детям.
В произведениях этих авторов есть положительные и отрицательные персонажи, есть и конфликты, но идиллическая атмосфера окутывает всё и всех, как плацента окутывает плод. Однако это не идиллия Чарской или «Детства Тёмы». Она другая. Предоставим слово классику советской детской литературы Аркадию Гайдару. Вот как кончается повесть «Чук и Гек» (тоже, кстати, переизданная в последнее время):
«Это в далекой-далекой Москве, под красной звездой, на Спасской башне звонили золотые кремлевские часы... И, конечно, задумчивый командир бронепоезда, тот, что неутомимо ждал приказа от Ворошилова, чтобы открыть против врагов бой, слышал этот звон тоже. И тогда все люди встали, поздравили друг друга с Новым годом и пожелали всем счастья. Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной».
Тема богатства и бедности не то чтобы вообще изъята из подобных произведений. Нет, но она как бы снята с повестки дня, ибо неактуальна: все сюжеты разворачиваются в мире победивших бедняков.
Но старый мир не забыт, он существует как напоминание, как отрицательный образец. К примеру, в «Старике Хоттабыче» масса сюжетных казусов вызвана именно тем, что «дремучий» джинн не знает законов советского общества и пионеру Вольке приходится проводить с ним политинформацию. У кого-то из сегодняшних взрослых эта агитация вызовет ироническую улыбку, но сегодняшний ребенок сам оказывается в роли Хоттабыча. Некоторые дети лишь из этой книги могут получить представление об идеологических основах социализма. А учитывая, что дети к иронии не склонны, хоть и смешливы (взрослые совершают большую ошибку, путая эти два свойства), и что Волька не просто главный, но и очень обаятельный герой, его поучения будут восприняты юным читателем безо всякого скептицизма. Да, собственно говоря, что уж такого плохого в строках типа: «Кому нужны друзья за деньги, слава за деньги? Ты меня просто смешишь, Хоттабыч! Какую славу можно приобрести за деньги, а не честным трудом на благо своей родины?» или: «Если нашему человеку требуются деньги, он может обратиться в кассу взаимопомощи или занять у товарища. А ростовщик — это ведь кровосос, паразит, мерзкий эксплуататор, вот кто! А эксплуататоров в нашей стране нет и никогда не будет. Баста! Попили нашей крови при капитализме!».
Конечно, может, кому-то больше по душе ссуды под высокие проценты и мафиозное «включение счетчика», но это до поры до времени. Пока собственные дети не сталкиваются с подобными реалиями. Тут апологетика периода первоначального накопления капитала быстро сходит на нет и начинаются поиски опытного психолога, который помог бы избежать встречи с органами правопорядка.
— Можно подумать,— возразят нам,— что в западной литературе для малышей богатые непременно показываются с симпатией. Да возьмите хотя бы творчество прекрасной шведской писательницы Астрид Линдгрен! Что, она поет гимн богатству?
В двух словах тут никак не ответишь, потому что ответ гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
Да, богатые далеко не всегда выглядят в западной литературе симпатягами. Но там и нет нерасторжимого двуединства «зло — богатство», «добро — бедность». Пеппи — Длинный Чулок, героиня повести Линдгрен, добрая и при этом очень богатая девочка — обладательница сундука, битком набитого золотыми монетами. Она отдает излишки, а котята из «Кошкиного дома» или Падчерица из «Двенадцати месяцев» делятся последним. Согласитесь, это не очень схожие образы доброты.
И Пеппи, и, если вспомнить М. Твена, принц из «Принца и нищего», и богатые филантропы Диккенса, и множество других подобных персонажей западной литературы — это все варианты частной, «точечной» благотворительности, «гуманистического» варианта. Идея кардинального переустройства мира им и в голову не приходит. Принц, узнавший на своей шкуре, что такое жизнь нищего, вернувшись на трон, не торопится раздать беднякам богатства английской короны, а лишь вознаграждает тех, кто был к нему добр во время его злоключений. Ну, и несколько смягчает участь народа, сделав некоторые поблажки в налогах.
Пеппи, если посмотреть на нее под этим углом зрения, выступает как аналог принца: с одной стороны, проявляет похвальную доброту, покупая бедным детям леденцы, а с другой — не собирается отказываться от сундука с золотом «в пользу бедных», ибо именно он обеспечивает ей свободу. Свободу жить по своему усмотрению и в том числе забавляться властью своего толстого кошелька над продавцами и приказчиками: сначала они относятся к Пеппи презрительно, ведь ее вид вовсе не наводит на мысли о миллионах, но стоит ей вытащить из кармана золотую монету, как те же самые люди начинают перед ней пресмыкаться, буквально ползать на брюхе.
Выходит, что даже в образцах демократической западной литературы, по сути дела, поется гимн богатству. Но богатству «с человеческим лицом», что нисколько не отменяет существования бедных. Сегодня Пеппи им купила конфеты, а завтра?
— Ну конечно! — послышится сейчас язвительное возражение.— Лучше забивать детям голову откровенными утопиями. Ведь все, что вы приводите сейчас в пример, типичные утопии. Сегодня это ясно, как Божий день!
Да, безусловно. Но, во-первых, утопичны любые сказки, поэтому сам признак утопичности следует вынести за скобки, когда речь идет о детской литературе, которая вся в той или иной мере сказочная, фантазийная. А во-вторых, утопия — она из сферы идеального, то есть недостижимого в реальной жизни. Существует даже такое клише — «недостижимый идеал». Модель утопии, свойственная той или иной культуре, тоже формирует этические установки народа. И никуда от этого не деться. Точно так же, как не обойтись в воспитании без идеалов. Попробуйте — и вы быстро схватитесь за голову.
— А мы будем читать своим детям только западную, а не совковую литературу — Льюиса Кэррола и Клайва Льюиса! — в запальчивости воскликнет оппонент.
Очень хорошо, читайте. Только другие тоже воспользуются таким важным завоеванием, как плюрализм. И их дети будут прекрасно знать советскую детскую литературу. И уже знают, благо, «Буратино» и «Три толстяка» не сходят с книжных прилавков. И, сталкиваясь с детьми-«знайками» (которых большинство), ваши дети неизбежно почувствуют себя обделенными. Не верите? Ну представьте себе в реальности семилетнего ребенка, который не знает, кто такой Буратино (или Чиполлино, или Суок). Как на него посмотрят сверстники?
Да и как уберечь? Вот уж поистине утопическая идея! Эта литература настолько въелась в поры всей нашей культуры, что придется исключить массу фильмов, мультфильмов, спектаклей, песен, не водить ребенка на елки, где, в частности, очень популярен карнавальный костюм Буратино. А игрушки? А одноименный лимонад? А конфеты «Золотой ключик»? В общем, не очень понятно, как выкрутиться.
Но нашего оппонента не так-то просто сбить с панталыку.
— Ладно,— делает он тактическую уступку,— читать будем, но выборочно, с купюрами.
Ну что ж, роль цензора, в конце концов, естественна для взрослого. Мы всегда что-то даем детям почитать, а что-то — нет. Но именно идеологическую цензуру в данном случае осуществить невероятно сложно. Скажем более определенно: нам такая задача представляется невыполнимой. Это все равно, что выдернуть из холста поперечные нити с целью смягчить ткань. Вот, например, В. Драгунский. Казалось бы, в его рассказах нет и не может быть никакой «идеологической подкладки». Кого-то, наверное, даже удивило, что мы поставили его в один ряд с Гайдаром и Лагиным. Откроем «Денискины рассказы». Конечно, это не «Школа» и не «Судьба барабанщика». Но... Впрочем, цитаты убедительней:
«Папа покачал головой.
— Ах вот оно что! Его высокоблагородие фон барон Кутькин-Путькин не хочет есть молочную лапшу! Ему, наверно, надо подать марципаны на серебряном подносе!
Я засмеялся, потому что я люблю, когда папа шутит.
— Это что такое — марципаны?
— Я не знаю,— сказал папа,— наверно, что-нибудь сладенькое и пахнет одеколоном. Специально для фон барона Кутькина-Путькина!.. А ну давай ешь лапшу!» (рассказ «Арбузный переулок»).
Это юмор. А вот и лиризм:
«А потом один парень снял пиджак... достал с третьей полки гармошку и заиграл, и спел грустную песню про комсомольца, как он упал на траву, возле ног у коня, и закрыл свои карие очи, и красная кровь стекала на зеленую траву» (рассказ «Поют колеса тра-та-та»).
А вот и революционный пафос, вплетенный в сюжет, как поперечная нить в продольную. Рассказ «Сражение у Чистой речки». Ребята сидят в кино.
«И в это время откуда ни возьмись появились белые офицеры, их было очень много, и они начали стрелять, и красные стали падать и защищаться, но тех было гораздо больше... И красный пулеметчик стал отстреливаться, но он увидал, что у него очень мало патронов, и заскрипел зубами, и заплакал. Тут все наши ребята страшно зашумели, затопали и засвистели, кто в два пальца, а кто просто так. А у меня прямо защемило сердце, я не выдержал, выхватил свой пистолет и закричал что было сил:
— Первый класс “В”! Огонь!!!
И мы стали палить из всех пистолетов сразу. Мы хотели во что бы то ни стало помочь красным».
Заметьте, что в юмористическом рассказе нет ни тени ерничества. Напротив, юмор виртуозно сочетается с трагическим, высоким переживанием.
Вы думаете, наш оппонент сдался? О нет, он бьется до последнего, ведь он тоже как-никак воспитывался на книгах Драгунского и Гайдара.
— Ничего страшного! Можно прочитать все эти книги, только надо их по-умному прокомментировать: рассказать детям о зверствах большевиков, о сталинщине, о лагерях.
Верной дорогой идете, товарищи! И у вас уже появились проводники. Например, в новом учебнике русской словесности Е.Н. Басовской читаем: «Когда я училась в школе... революция представлялась нам примерно такой — радостной победой “хороших” над “плохими”. Я очень любила и по сей день люблю “Сказку о ветре”...— бесподобный романтический детектив, но сегодня мне делается не по себе, когда пришедшие к власти революционеры говорят о трудовом перевоспитании эксплуататоров. Слишком хорошо мы знаем теперь, что представляли собой реальные трудовые лагеря на Колыме или на Соловках...».
Родители могут развить эту тему и наполнить конкретными фактами.
Только пусть они сначала попытаются поставить себя на место ребенка пяти-семи лет и спрогнозировать реакцию. Но подлинную, с учетом возрастных возможностей, а не запланированную взрослыми.
Как профессионалы в области детской психологии мы можем им в этом помочь.
Вместо ожидаемой реакции осознания у ребенка от рассказов о лагерях могут развиться патологические страхи — фобии. Если уж они зачастую возникают сейчас от заграничных мультфильмов, то что говорить о «суровой правде жизни», о правде про Соловки и Колыму?! А с другой стороны, подобные рассказы могут вызвать у ребенка охранительную реакцию отторжения. Психика, будучи не в состоянии переварить непосильную информацию, вытеснит ее... И вытеснение это вовсе не безболезненно, не безобидно для тех же самых родителей. Страх порождает агрессию, а она выплескивается прежде всего на близких.
Есть и другой аспект. Маленький ребенок по многим причинам любит сказочный жанр. В частности, и потому, что один из его основных законов — победа добрых сил в финале. А тут вдруг получится, что именно эти добрые силы и совершали в жизни страшные злодеяния. Условно говоря, оружейник Просперо вовсе не благородный защитник и вождь всех «униженных и оскорбленных», а кровавый палач, на совести которого множество невинных жертв. Очаровательный наследник Тутти — да это ж Павлик Морозов, отрекшийся от своих пусть приемных, но родителей... Ряд таких пар легко можно продолжить.
Эти перевертыши настолько зашкаливают, что восприняты ребенком попросту не будут. В лучшем случае память удержит два отдельных образа: один — плохого палача (который, кстати, есть в «Трех толстяках» и выступает, разумеется, на стороне зла), другой — хорошего оружейника Просперо. Но зато в памяти может остаться другое — попытка родителей разрушить гармонию хрупкого, еще очень уязвимого внутреннего мира ребенка, посягательство на правду, какой она должна (выделено нами.— Авт.) быть. Должна и потому, что соответствует глубинным установкам нашей культуры, и потому, что изображена — как ни обидно это критикам подобной литературы — удивительно ярко и талантливо. А ведь даже взрослые люди, давно, казалось бы, выросшие из «коротких штанишек», упорно цепляются за дорогие их сердцу мифы и не прощают разрушителей.
Если же все-таки — чего в жизни не бывает?! — ваш ребенок окажется в состоянии усвоить эти страшные перевертыши, не спешите радоваться. Игра (а дети подсознательно пытаются превратить страшное в игру), может быть, только началась. И мало ли какое развитие она получит дальше?
— Моя мама днем — мама, а ночью — ведьма,— сообщила нам по секрету одна девочка, чьи родители тоже старались «по-умному комментировать» книжки, которые ей читала бабушка. Вернее, девочка сказала «вемьдя» — она была еще совсем маленькая.
Князь Курбский как первый русский невозвращенец
Хоть и принято говорить, что чужие дети быстро растут, свои тоже вырастают куда быстрее, чем хотелось бы. Не успеешь глазом моргнуть, а у них уже появляется серьезная социальная роль: ученик. И у государства, соответственно, появляется значительно больше рычагов воздействия на юного гражданина. Семье приходится потесниться, делегируя немалую часть воспитательных полномочий школе. Там ребенок проводит как минимум полдня, он должен подчиняться общим требованиям, слушаться учителя, который нередко становится авторитетом, конкурирующим с родительским. И теперь основные детские книги — учебники; их содержание школьник волей-неволей должен усвоить, иначе не получит хорошей оценки.
Надеемся, в предыдущей главе мы сумели показать, что в нашей детской литературе — так уж сложилось и ничего с этим не поделаешь — содержится значительный классовый элемент. А если не бояться повторить учебник марксизма, то можно выразиться более определенно: эта литература защищает интересы бедных и проникнута духом классовой борьбы. И то, и другое — ее неотъемлемые характеристики.
Поэтому в связи с глобальными планами переустройства общества перед школой стоит серьезнейшая идеологическая задача. Да-да, именно идеологическая, сколько бы ни твердили специалисты в области философии образования, что школу необходимо как можно быстрее деидеологизировать. Не надо обольщаться. Трудновыговариваемое слово — очередной эвфемизм. Подразумевается-то не только отмена старой идеологии, но и создание новой. И это совершенно естественное желание — никакое общество не может жить (и не живет!) без идеологии. Непонятно даже, почему этого надо так стесняться. Намерение вполне законное. Только осуществимое ли?
Не будем надолго застревать на школьной программе по литературе — она всем так или иначе знакома. Скажем только, что вполне понятный соблазн пересмотреть эту программу, исключить из нее «все устаревшее, утратившее звучание» (а называя вещи своими именами, социально вредное и даже опасное) не может быть удовлетворен. У нас не было другой литературы. Вернее, была: Греч, Булгарин, Боборыкин... По выражению Некрасова, «милорд глупый», которого темный, полуграмотный, пьяненький мужик несет с базара. Сейчас, между прочим, сделана попытка вернуть тот самый базар. Гипотетически можно себе представить, что содержимое рыночного книжного лотка переносится в состав хрестоматии по литературе. Но в реальности это невозможно. И невозможно по очень простой причине: там нет предмета литературы. Нечего проходить, нечего изучать.
И тут возникает другое искушение: так ловко перестроить школьную программу, сместив акценты, чтобы по возможности смягчить «социальный элемент». Поскольку такая заявка достаточно конкретна и серьезна, она заслуживает и более серьезного рассмотрения. Мы зафиксируемся на программе по литературе потому, что в формировании детского мировоззрения ей традиционно отводится одна из важнейших ролей. Литература дает модели человеческих взаимоотношений, а это неотъемлемая часть воспитания.
В предыдущей главе мы вскользь упомянули учебник Е.Н. Басовской, выпущенный в рамках программы гуманитарного образования в России, спонсором которой выступил известный американский предприниматель и общественный деятель Дж. Сорос. Подобных учебников сейчас расплодилось, как грибов после дождя, но мы остановимся только на одном, ибо он, на наш взгляд, весьма иллюстративен и дает достаточно полное представление о тенденциях в этой области. Тем более что упомянутый учебник победил в трех турах конкурса, в котором участвовало более полутора тысяч авторских коллективов из разных регионов России, и — цитируем предисловие — ориентирован «на ценности отечественной и мировой культуры современного демократического общества». В каком-то смысле это великолепная модель перестройки нашего образования в том ключе, который соответствовал бы интересам нового строя.
При беглом ознакомлении с этой книгой может возникнуть иллюзия удивительной насыщенности и разнообразия материала. Здесь и «Поэтика» Аристотеля, и Белинский, и оба Гумилева, и Самойлов. И Олеша, и Кривин, и Кукин, и Корнель, и протопоп Аввакум, и Марина Цветаева, и Буало, и Стерн, и Солженицын. И все это для восьмого класса, то есть для детей тринадцати-четырнадцати лет!..
Когда проходит первая оторопь, естественно, задаешься вопросом: а может ли восьмиклассник осмыслить за год такое количество литературных произведений? Да хотя бы только прочитать? Совершенно очевидно, что нет. Это вряд ли под силу даже студентам-гуманитариям, а ведь в школе, во-первых, множество других предметов, и во-вторых, у школьников, выражаясь языком точных наук, разрешающая способность не столь велика. Попросту говоря, не может детская голова всего этого переварить. Больше того, литература, о которой в основном идет речь в этом учебнике, сложна для восприятия, и с детьми нужно обстоятельно разбирать сложный смысл, облеченный в сложную для современного человека форму. Как, собственно, всегда и делалось, когда в школе проходили «Слово о полку Игореве», «Путешествие из Петербурга в Москву», «Бедную Лизу».
Задаешь себе вопрос: а к чему такая смысловая карусель? Неужели автор не знает элементарных законов детской психологии — специфики восприятия, внимания, памяти? Навряд ли. Думаем, дело в другом. Учебников много, авторы разные, а схема одна. И естественно, напрашивается вывод о новой педагогической установке. Ее можно сформулировать следующим образом: имея дело с таким социально взрывоопасным материалом, как русская литература, надо максимально запутать картину. Запутать так, чтобы голова закружилась. Как у человека, который играет в жмурки: глаза завязаны, а во тьме раздаются голоса. Только пойдешь направо — тебя окликают слева, делаешь шаг вперед — слышишь голос сзади. И уже хватаешь что попало, кого попало, лишь бы прекратить это хаотическое мельтешение.
На самом деле хаос иллюзорный, ибо карусель вращается вокруг совершенно определенного стержня. «Революция есть Зло» — такова основная идея учебника. Как сейчас говорят — однозначно. Из этой не слишком оригинальной сверхидеи вытекает противопоставление гражданского долга и — цитируем — «маленького личного счастья в укромном уголке». И каким бы литературным материалом это противопоставление не иллюстрировалось, автор учебника недвусмысленно дает понять, что предпочесть следует второе. Прямо скажем, труд это нелегкий, когда имеешь дело с русской литературой. Конечно, с наибольшей остротой вопросы социального неравенства, восстановления справедливости и исполнения гражданского долга звучали в литературном направлении XIX века, получившем название «критический реализм», но и произведения предшествующих периодов в очень большой степени проникнуты теми же идеями. Достаточно вспомнить «Слово о полку Игореве», насыщенное яркими патриотическими чувствами; Даниила Заточника с его бесстрашными обличениями сильных мира сего за равнодушие к сирым и убогим; Сумарокова, воспевающего тех, кто заботится не о личном, а об общественном благе; Фонвизина, Карамзина, Державина.
Как же автор учебника выходит из положения? Способы разные, хотя их и не очень много. Первый мы уже упомянули — мозаичность подачи материала, приводящая к дезориентации в интеллектуальном пространстве. Такой прием воздействия на сознание называется фрагментацией.
Второй прием — это ложная аналогия. Вот, к примеру, «Слово Даниила Заточника». Голос, долетевший до нас из русского Средневековья, и сегодня вызывает острое чувство сострадания, волнует какой-то вневременной подлинностью: «Княже мой, господине!.. когда же лежишь на мягкой постели, под собольими одеялами, меня вспомни, под одним платком лежащего, и от стужи оцепеневшего, и каплями дождевыми, как стрелами, до самого сердца пронзаемого».
А вот как пишет о нем Басовская (курсив в цитате наш.— Авт.): «Именно в искусстве задеть, обидеть всех и каждого Даниил, видимо, не знал себе равных... Он обрушивает на голову своего господина град упреков, тревожит его совесть, то и дело сбивается с униженного тонана надменный и издевательский». Обратите внимание на подбор слов. Мало того, что автор наделяет страдальца множеством отрицательных свойств, но еще и старательно выбирает такие, которые особенно ненавистны детям.
Вы спросите, при чем тут ложная аналогия? Она дана ниже. «Такой оригинальной манерой общения с сильными мира сего,— пишет автор учебника о вышеприведенном отрывке,— Даниил напоминает мне литературного персонажа — героя... К.Г. Паустовского “Золотая роза”».
Персонаж этот — старый нищий. Он описан Паустовским так, что вызывает чувство брезгливости и неприязни. Причем в учебнике нищий не просто упоминается: цитата из «Золотой розы» занимает больше места, чем цитата из произведения Даниила Заточника. А после этой цитаты — чтобы уж не было никаких разночтений! — ставится жирная точка над «i»: «Если тебе захочется узнать, как был посрамлен страшный (курсив опять наш.— Авт.) нищий, прочти главу из “Золотой розы”. У нас сейчас речь о другом — о человеческом типе, который живет во все века». Ну, как вам такая аналогия?
Пример этот не единственный. Вспомним уже упомянутого Сумарокова. Приведя строки монолога Ксении, дочери боярина Шуйского:
Блажен на свете тот порфироносный муж,
Который не теснит свободы наших душ,
Кто пользой общества себя превозвышает
И снисхождением сан царский украшает,
Даруя подданным благополучны дни,
Страшатся коего злодеи лишь одни,—
Е.Н. Басовская называет его «не совсем уместным монологом». (Хотя что в нем уж такого неуместного, если он обращен к князю? Вполне естественно, что невеста излагает жениху свой идеал правления, ведь, став княгиней, она будет чувствовать себя в какой-то мере ответственной за деяния мужа.) Ну а чтобы еще больше подчеркнуть нелепость поведения Ксении, автор призывает вспомнить... строки из повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу»: «Шар приземлился, из него вышел пилот в голубом, а на пороге Пантеона появилась... девица в розовом. Они устремились друг к другу и взялись за руки. Я отвел глаза — мне стало неловко».
Безусловно, если смотреть на героев классицизма с позиции сегодняшнего дня, они покажутся одномерными, прямолинейными. Особенно положительные герои, поскольку отрицательные обладают, как правило, более яркой типажностью. И в советской школе детям говорилось о некоторой бледности и ходульности положительных персонажей эпохи классицизма. Говорилось и о морализаторстве, присущем подобным произведениям. А вот чего не было — так это попытки поставить всё с ног на голову. Не говорилось, что единственный персонаж трагедии Сумарокова, вызывающий у читателя сочувствие,— это Димитрий Самозванец, которого автор недвусмысленно изобразил злодеем. И князь Курбский, который, как ни относись к личности Ивана Грозного, безусловно, совершил предательство, перейдя на сторону врага, не преподносился детям как «первый русский невозвращенец». Помните авторский отзыв о Данииле Заточнике? Вот и в пассаже про Курбского подбор слов весьма любопытен: «Шла Ливонская война. Очередное сражение Курбский проиграл. Это окончательно лишало его шансов заслужить царское прощение. И он предпочел эмигрировать (здесь и далее выделено нами.— Авт.) в Великое княжество Литовское — к военным противникам России. Спорный поступок с нравственной точки зрения? Безусловно. Но Курбский не был малодушным человеком, который думает только о спасении своей жизни. Оказавшись в относительной безопасности, он направил Ивану Грозному эпистолу, больше похожую на обвинительный акт».
Не будем забывать, что жанр учебника весьма далек от жанра литературной эссеистики. Даже самый либеральный учебник, по сути, авторитарен — такое уж у него назначение. Он призван сообщать ученикам определенные установки: как относиться к произведению, его идеям, героям, автору.
Когда мы уяснили основные принципы «обновления гуманитарного образования в России», нам стало особенно любопытно, как автор управится с Радищевым. Преодолеет ли «сопротивление материала»? Что и говорить, потрудиться создателю этого учебника пришлось усердно (хотели сказать «на совесть», но язык не повернулся). Были пущены в ход самые разные средства. Не будем останавливаться на уже упомянутых, лучше приведем примеры других.
Выравнивание. Этот прием манипуляции сознанием заключается в том, что на чем-то важном внимание фиксируется минимально, а чему-то другому уделяется, напротив, непропорционально много места. Что главное в «Путешествии из Петербурга в Москву»? За что автор был сослан в Сибирь? Казалось бы, все ясно. Во-первых, значительная часть книги посвящена описанию тяжкой, унизительной доли простых людей, их страданиям, их бесправию. Причем это не просто бытописание, а страстное обличение несправедливости, произвола, подневольного труда. Но и это еще не всё. Радищев не просто кипит благородным негодованием, а пытается, как принято теперь говорить, найти конструктивное решение. И находит его в революции.
А что же находит читатель в учебнике Басовской? Как вы уже, наверное, догадываетесь, он не найдет там описания встречи с пахарем, который говорит, что у барина «на пашне сто рук для одного рта, а у меня две для семи ртов», ни душераздирающей сцены торговли крепостными в селе Медное (а ведь это и в художественном отношении ярчайшая сцена!), ни рассказа крепостного Ивана, измученного издевательствами господ и воспринявшего рекрутчину как счастливое избавление. Нет здесь и хрестоматийных цитат. Например, таких: «Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? То, чего отнять не можем — воздух».
На что же автор не пожалела страниц в главе, посвященной Радищеву? Шесть страниц из одиннадцати занимает биография, из которой школьники могут почерпнуть жизненно необходимые подробности. Ну, например, что Александр Николаевич обучался в Пажеском корпусе по «всеобъемлющему плану академика Миллера, включавшему в себя даже курс сочинения комплиментов», и, представьте себе, очень в этом преуспел. Или что он был членом Аглицкого клуба, а потом «занял перспективное место в санкт-петербургской таможне» и «за разработку экспортно-импортного тарифа даже получил бриллиантовый перстень от императрицы Екатерины».
В принципе, в столь подробном жизнеописании нет ничего плохого, если отвлечься от пропорции: шесть страниц на биографию, пять — на произведение. Из них на описание главного — страданий народа — потрачено всего четыре с половиной… строчки.
Интересно и обрамление, в котором подаются сии скупые строки. «В главе “Зайцово” рассказывается о том, как крестьяне учинили самосуд над помещиком и его сыновьями». Далее следует краткая цитата из «Путешествия...». Затем спрашивается: можно ли оправдать эту жестокую расправу? «Я уверена, что нет,— опережая ответ читателя, отвечает автор учебника, но все же потом оговаривается,— была бы уверена, если бы один из персонажей “Путешествия...” только что не поведал мне во всех подробностях историю столкновения барина и мужиков». И только потом следуют те самые четыре с хвостиком строки: «Помещик и его сыновья изображены злодеями, чудовищами: господин асессор разоряет, морит голодом и зверски наказывает крепостных, его наследники похищают у жениха крепостную девушку и собираются совершить над ней насилие...». Ну а за этим в конце пассажа звучит заключительный аккорд. Тоже цитата из Радищева: «...русский народ очень терпелив и терпит до самой крайности; но когда конец положит своему терпению, то ничто не может его удержать, чтобы не преклонился на жестокость».
Цитата эта, правда, взята из другого места. Сам Радищев заключает рассказ о расправе над помещиком совсем иначе. Крестьянкин, бывший председатель уголовной палаты, говорит: «Невинность убийц для меня, по крайней мере, была математическая ясность». На суде он произносит речь, в которой звучат такие слова: «Убиенный крестьянами асессор нарушил в них право гражданина своим зверством... и крестьяне, убившие зверского асессора, в законе обвинения не имеют». Когда же суд не пожелал оправдать «невинных убийц», Крестьянкин ушел в отставку.
Об этом в учебнике ни ползвука! Как, впрочем, и о том, что многие истории, описанные в «Путешествии...», подлинны, документальны. Дело в том, что Радищев некоторое время служил протоколистом в Сенате, и в его департаменте производился разбор челобитных, поступавших от частных лиц. И об этом наиважнейшем факте в такой пространной биографии тоже не сказано ничего. Зачем? Это ведь пустяк по сравнению с членством в Аглицком клубе.
При разборе главы «Зайцово» применяется еще один психотехнический прием. Его принято называть приемом противопоставления. Он направлен на создание контрмнения читателя или зрителя. Для этого комментатор старательно подчеркивает точку зрения, противоположную точке зрения автора. Е.Н. Басовская прибегает к этому приему очень часто. Помимо всего прочего, это сообщает книге несвойственный нашим учебным пособиям оттенок задушевности, разговорности — того, что, в свою очередь, располагает к ответному доверию. «Когда я перечитываю “Путешествие из Петербурга в Москву”, то не могу отделаться от неприятного ощущения: Радищеву удается убедить меня... Нет, я не хочу соглашаться с Александром Николаевичем Радищевым, но я вынуждена признать его частичную правоту... Когда-то в советской школе 70-х годов меня учили: Радищев призывает к революции. У нас тогда все писатели только тем и занимались, что к чему-нибудь призывали».
О всех прочих писателях сейчас говорить не будем. А что касается Радищева... Беда в том, что он действительно призывал к революции. И призывал очень явно и отчетливо: «...прострите на... общественного злодея ваше человеколюбивое мщение. Сокрушите орудия его земледелия, сожгите его риги, овины, житницы и развейте пепл по нивам...». А вот еще:
Ликуйте, склепанны народы,
Се право мщения природы
На плаху возвело царя… и т. д. и т. п.
Да, тут уж фрагментацией и противопоставлением не отделаешься. И тогда идет в ход тяжелая артиллерия. Скажем, берется такой отрывок: «Вольные люди, ничего не преступившие, в оковах, продаются, как скоты!.. О! если бы рабы... разбили железом, вольности их препятствующим, и кровию нашей обагрили нивы свои! что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулися великие мужи для заступления избитого племени, но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишены». Ну что тут поделать? Как эти слова истолковать на другой, «правильный» лад? Оказывается, ничего сложного, если немного поработать с текстом: стоит убрать вопросительный знак после слов «что бы тем потеряло государство», поставить вместо него многоточие и опустить последнюю фразу, как мы получим совсем иную, прямо-таки апокалиптическую интонацию. Дескать, невосполнимая утрата. И вообще все пойдет прахом. Улавливаете разницу? У картежников это называется «передергивать».
Или вот такой пассаж: «Подтвердилось и еще одно предсказание, которое обычно остается незамеченным при торопливом чтении “Путешествия...”: “Дошед до краев возможности, вольномыслие возвратится вспять. Исторический опыт нескольких стран, в том числе и России, показал, что именно революции порождают самых страшных тиранов”».
А теперь откроем и неторопливо прочтем Радищева. Да, цитата на сей раз приведена точно. Вот только речь идет не о революции и тиранах, а о религии и суевериях, о разрушении религиозных норм и замене их схоластикой. И опять нам вспоминается Пушкин. Вернее, его «великое революционное предсказание»: «Октябрь уж наступил»...
Примеры можно множить и множить, но думаем, мы достаточно наглядно продемонстрировали важнейшую тенденцию нашего «обновленного образования». Фактически вся эта глава — сплошная иллюстрация. Однако мы решили не жалеть на это места, поскольку, как нам кажется, взрослые люди должны знать, что именно вкладывают сейчас некоторые авторы в детские головы и души.
Ну а о том, как это может повлиять на психику, на отношения между людьми и, соответственно, на атмосферу в обществе, мы поговорим в следующих главах.
«Чумазый ребенок»
Как ни грустно это сознавать, но, увы, нет такого замысла, на который бы не нашлось исполнителя. А если исполнитель еще и ретив...
На одной педагогической конференции нам довелось познакомиться с молодым директором частного лицея. Много мы слышали за последнее время всякого разного, но даже на этом фоне беседа с ним нас весьма впечатлила. Со свойственным его возрасту максимализмом он решил вопрос преподавания литературы в школе радикально.
— Мы вообще отказались от преподавания литературы и заменили ее литературоведением,— сообщил директор.
В ходе дальнейшей беседы выяснилось, что под литературоведением понимается исключительно разбор художественных особенностей произведения: анализ метафор, эпитетов, языковых пластов и проч., и проч.
Выяснилось, правда, и то, что недавно лицей вынужден был отказаться от столь жесткого подхода.
— Некоторые папаши и мамаши выражали недовольство,— пожаловался директор.— Видите ли, дети не знают содержания произведений! Можно подумать, для современной жизни это актуально...
Дальше прозвучала еще одна претензия. Теперь уже в адрес учителей:
— Учителя в нашей стране нормального найти — это большая проблема. Уж, казалось бы, делай, что хочешь! И деньги я приличные плачу, и детей по пять-восемь в классе... Только работай. Так нет же! Совковым учителям обязательно надо о смысле жизни с детьми разговаривать, о высоких материях. А нормально преподавать предмет им неинтересно. За год четверых словесников сменил, представляете? Вот сейчас опять нового ищу.
Честно говоря, слушать эти откровения было не только любопытно, но и радостно. Радостно, потому что до сих пор не все покупается за деньги. Даже при такой нужде, какую терпят сейчас наши педагоги, они не спешат отказываться от основ своей профессии. Ведь вопрос о смысле жизни — это главный вопрос литературы. И не только литературы, но и обществоведения, истории, философии, социологии и т. п. И как можно, преподавая эти предметы, обойти его молчанием? Ох, долго незадачливый директор будет искать «чистых предметников»!.. Или это мы такие незадачливые и не понимаем, что параллельно с выпуском новых учебников куются новые кадры и проходят переподготовку старые? И вообще — жизнь заставит, голод не тетка...
Можно, конечно, создать такую безработицу, что учителя будут на черное говорить белое и в рассказе «Муму» обращать внимание учеников главным образом на звукоподражательный характер заголовка.
Но представляете, как им будет тошно? С каким презрением к себе это будет связано? И как это презрение к себе отзовется ненавистью к тем, кто их вынудил постоянно лгать? И до какого градуса дойдет эта ненависть, поскольку будет тайной? Примеры-то подобные перед глазами. Кто громче всех кричит о коммунистических зверствах, об идентичности коммунизма и фашизма, о «проклятой тоталитарной системе» и о «черной дыре длиной в семьдесят лет»? Те, кто больше всех прогибался, активничал, врал — в общем, был, что называется, «трижды партийным». И не задаром. Психологически это легко понять. Нет бОльших мужененавистников, чем проститутки. По нашим многочисленным наблюдениям, в последние годы чувство психологического комфорта (насколько оно вообще возможно в столь дискомфортной ситуации) испытывают либо те, кто всю свою жизнь, а не только в какой-то период, исповедовали принципы максимального «неучастия во лжи», не состояли в КПСС и даже старались не иметь друзей среди партийных карьеристов, либо те, кто вступал в партию действительно по убеждениям. Хотя в 70-е годы таких искренних неофитов уже почти не встречалось, ибо даже школьники постарше знали, что если хочешь быть начальником, то надо вступать в партию. Поэтому вторую категорию сейчас составляют или люди старшего поколения, или те, кто пополнили ряды коммунистов недавно, когда это уже не сулило никаких выгод.
Если вернуться к учителям, то их внутренний конфликт будет куда драматичнее, чем у партийных боссов. И вовсе не потому, что им придется лгать не во имя престижных благ, а только чтобы с грехом пополам прокормиться. (Это-то как раз могло бы послужить некоторым оправданием.) Тут дело в другом. Партийные начальники нарушали моральные нормы, что называется «в индивидуальном порядке»: призывали к добру, правде и справедливости, а поступать могли несправедливо и зло. Иначе говоря, их поведение не соответствовало провозглашаемым идеалам. Учителя же, умолчав о главном — самих идеалах, косвенно посягнут на них и тем самым предадут основы нашей культуры, а это более страшное испытание для совести. К тому же не надо забывать, что учителями по большей части становятся люди с благородными помыслами, для которых карьерные соображения не приоритетны. Функционеры и в этом смысле были в более выигрышной ситуации, так как это люди другой породы. Честолюбивый, конкурентный характер не слишком совместим с обостренной совестливостью.
Кроме того, функционеры занимали весьма высокое положение в общественной иерархии (то есть не зазря страдали, с их точки зрения). Учителя же и тут безнадежно проигрывают, ибо в результате социального расслоения будут находиться, да и уже находятся, на одной из низших ступенек иерархической лестницы. Зарплату им в десятки раз не увеличат, многочисленные льготы, которыми пользовались и пользуются чиновники, учителям тоже никто не даст. А что еще определяет социальную высоту? Только одно: почет и уважение общества. А чем это завоевывалось в нашем культурном пространстве? Именно тем, о чем с таким раздражением говорил директор частного лицея. Учителя стремились быть не чистыми предметниками, а именно «учителями жизни». И жизнь ими понималась не просто как совокупность биологических функций, а напряженный путь вверх. Не к Богу, ибо советская школа была атеистической, но к нравственно-культурным вершинам. В свете этого важнейшей функцией учителя было развитие «нравственного прямостояния» учеников.
Если же учитель откажется от этой функции, станет «профи», если он, скажем, не будет учить детей сострадать крепостному Герасиму и призывать возмутиться бессердечием его хозяйки — ну что ж, такой педагог перейдет в категорию обслуги. А что? Одни стригут, другие подают, третьи детишек по разным предметам натаскивают.
Сдав идеологические позиции, учителя окажутся неконкурентоспособными в борьбе за место под солнцем. Их единственным козырем будет объем знаний, объем информации по предмету. Но и этот козырь в очень недалеком будущем отберет у них компьютер. Собственно, так уже и происходит. Множатся обучающие компьютерные программы, и уже идут разговоры о том, что достаточно скоро дети смогут обучаться, не выходя из дому и общаясь только с «умным ящиком».
Директора упомянутого лицея такая перспектива, конечно, обрадует. Но обрадуются ли педагоги?
Впрочем, мы думаем, что столь радикальный подход не имеет в нашей стране серьезного будущего. Гораздо важнее (и сложнее) поговорить о тех учителях, которые стараются отгородиться от темы социального неравенства и классовой борьбы не из конъюнктурных соображений, а искренне. О тех, кто по-прежнему хочет «сеять разумное, доброе, вечное», но, не приемля «октябрьского переворота» и считая все происходившее после него трагической ошибкой, стремится заменить пагубную идею справедливости, которая завела страну в тупик, благородной и перспективной идеей свободы. И тут мы ступаем даже не на скользкую, а, скорее, на заминированную тропу. Дело в том, что для русского менталитета обе эти идеи не просто важны, а сверхценны. Обе они входят в культурное ядро. Да-да, несмотря на расхожие сентенции о «стране рабов» и о «рабской психологии», свобода в России — одна из главнейших ценностей. Но тут такая же история, как и с понятием собственности: европейская матрица не накладывается на русские представления о свободе. И поэтому, если стоять на позициях европоцентризма, может показаться, что русским вкус свободы неведом, недоступен и неугоден одновременно.
И тем не менее вся русская история и культура проникнуты стремлением к свободе. Что такое собирание земель при Иване Калите как не стремление освободиться от междоусобной распри? Разве не освобождение русской земли от «полчищ поганых» — главная тема «Слова о полку Игореве»? А тема воли, так часто и так пронзительно звучащая в русском фольклоре? И то, что после татаро-монгольского ига вот уже полтысячелетия никто не смог завоевать нашу страну, хотя не раз пытались? Как это увязать с рабской психологией? (Между прочим, ни одна европейская страна, кроме Англии, не может похвастаться такой длительной, пятивековой независимостью.)
По мере укрепления государственности соответственно уменьшалось субъективное чувство опасности, исходящей от внешних врагов. В своем крайнем проявлении это называется «синдромом шапкозакидательства». И акценты постепенно смещались в сторону свободы внутригосударственной, которая тесно переплеталась с понятием социальной справедливости. Освобождение крестьян, уничтожение сословных перегородок, отказ от ущемления гражданских прав иноверцев, отмена эксплуатации, свобода слова, понимавшаяся прежде всего как возможность свободно критиковать власть,— вот основной, но далеко не полный перечень вопросов, которые волновали русское общество XIX — начала XX века.
— Да, но в чем же тут различия с западными представлениями? — спросите вы.— Там решали те же самые вопросы, разве что намного раньше.
Где раньше, а где и позже. В США рабство было уничтожено на четыре года позже, чем у нас крепостное право, а расовые барьеры существовали до 70-х годов ХХ (!) века. Но речь сейчас не о том.
Различия есть. И не в частностях, а в самой сути. В западных представлениях о свободе на первое место поставлена свобода отдельного человека. То есть частная жизнь является важнейшей ценностью. Образно говоря, на Западе, в этом открытом мире, «железный занавес» висит на окне каждого дома, каждой квартиры. И это воспринимается как благо и как священное право.
Сказать, что в России отдельный человек и частная жизнь не имеют никакой ценности, значит либо ничего не понимать, либо безбожно лгать. Все социологические опросы показывают огромную важность семьи для наших людей. И это даже сейчас, при такой ужасающей статистике разводов! Довольно наивно полагать, что в 30-е, 40-е, 50-е годы, когда семьи были крепче и разводы реже, частная жизнь не имела ценности. Конечно имела, поэтому-то многими так болезненно воспринималось вмешательство в нее: проработки на собраниях, жалобы об изменах мужа в партком и т. п. А богатейшая, на любой вкус лирическая поэзия — от Асадова до Пастернака — это что, свидетельство равнодушия к частной жизни? А то, что наши дети чуть ли не с пеленок начинают думать о том, кем они станут, когда вырастут, причем думать, исходя именно из личных пристрастий и склонностей? Другое дело, что свободой отдельного человека и его частной жизнью русские представления о свободе не исчерпываются. Скажем определеннее: частная жизнь при всей своей важности не ставится во главу угла. Больше того, люди, провозглашающие ее безоговорочный приоритет, русской культурой столь же безоговорочно (и часто с перехлестом) порицаются. Их называют мещанами, обывателями, эгоистами, индивидуалистами (все эти слова имеют в русском языке ярко выраженный отрицательный оттенок). А с какой неприязнью про таких говорят: «Моя хата с краю, ничего не знаю»! (Сравните с совершенно нейтральным английским эквивалентом «It’s not my business» — «Это не мое дело», «I have nothing to do with it» — «Я не имею к этому никакого отношения».) Вот почему такими жалкими и смешными выглядят современные потуги реабилитировать эти слова. Например, идея назвать мужской журнал «Обыватель». Или когда интеллигентные люди с каким-то надрывным пафосом называют себя мещанами, как бы бросая вызов обществу, а при этом совершенно очевидно, что движимы они идейными соображениями — дескать, пора вернуть очерненному большевиками понятию его исконный смысл. И это особенно комично, учитывая, что мещанам, в каком значении это слово ни употребляй, свойственна приземленность, а не идеализм, и уж тем более не идейная горячка. Да и с обществом они в противоречие не вступают. Но это так, между прочим.
Нам кажется, в коллективном бессознательном русского народа заложено представление о свободе как о личном благе, напрямую увязанным с благом всеобщим, то есть с идеей всеобщей справедливости. В России, как ни старайся, не получается отгородиться «железным занавесом» на окне. Это не дает ощущения психологического комфорта, ибо свобода здесь предполагает и чистую совесть, не мучимую угрызениями.
Какая, собственно говоря, основная претензия людей к советской власти? Что привело в свое время очень многих под знамена демократов? Что вменяется в вину КПСС? А то, что ее вожди нарушали принцип справедливости: обещали одно — делали другое, провозглашали равенство, а сами пользовались множеством привилегий, декларировали свободу и при этом очень во многом ее ограничивали.
Но больше всего чувство справедливости оказалось ранено сознанием, что в тюрьмы и лагеря было посажено много невинных людей. Настолько ранено, что совсем недавняя, близкая история стремительно трансформировалась в исторический миф. И теперь уже все, сидевшие в лагерях и тюрьмах, воспринимаются как невинные жертвы. (Хотя ясно, что такого не бывает.)
В перестройку у многих людей возник соблазн отказаться от идеала справедливости, который был так дискредитирован реальной жизнью, что уже и сама его идеальная суть стала вызывать сомнение. Помните анекдот про цыгана, который смотрит на своего чумазого ребенка и думает: «Что легче? Этого отмыть или нового сделать?».
Но история продолжается, и порой возникает впечатление, что она решила преподнести нам всем, как нерадивым ученикам, наглядный урок: поставила перед нами гигантские весы и все подкладывает, подкладывает гирьки... На одной чаше весов свобода слова и печати, демократические выборы, возможность увидеть мир и затеять какое-то свое дело, купить то, что ты хочешь без очереди.
Все это замечательно. Кто же спорит? Но как быть с тем, что другая чаша — чаша издержек свободы — стремительно тяжелеет? Как быть сельскому учителю, который, увидев зимой полупустой класс, понимает, что дети отсутствуют не по болезни, а потому, что у них нет теплых вещей и не в чем прийти в школу? (Это настолько уже распространенное явление, что даже обсуждается в Государственной думе.) Сказать, что дети свободны в своем выборе ходить или не ходить в школу и что надо потерпеть лет тридцать, пока все встанет на свои места? А что сказать про миллион беспризорников? Что это как-нибудь рассосется? А про растущее число заболеваний детским туберкулезом? Что как-нибудь вылечится? А про тысячи погибших за годы чеченского конфликта — непосредственных участников военных действий? Да и о тех, кого достигает «эхо войны» и сегодня — непрогнозируемыми терактами, вполне реальной для каждого опасностью — стать заложником? Что и в Афганистане тоже погибали, что и в мире неспокойно и никто нигде не застрахован от терроризма? И вообще, мол, все происходящее — это расплата за революцию, сталинские репрессии и брежневский застой? А если вдруг какой-нибудь шустрый ученик спросит, почему, собственно, расплачиваться должны потомки тех, кто гнил в лагерях, голодал в деревне и надрывал здоровье на великих стройках,— заявить ему, что он свободен выйти из класса? И, спокойно приступив к разбору «Муму», зафиксировать внимание учащихся на защите прав домашних животных?
Но ведь мы с самого начала подчеркнули, что будем говорить не о циниках и конъюнктурщиках, а о людях, которые искренне восприняли призывы к гуманизации образования. Они-то очень быстро поймут (и уже понимают), что уход от социальных проблем в столь острой социальной ситуации прежде всего негуманен. Мы не западные люди, которые могут развести руками и сказать: «Да, конечно, несправедливость огорчает, но что поделаешь? Так всегда было». Во-первых, такой вопиющей несправедливости, когда одни строят виллы за сотни тысяч долларов, а у других хронически не хватает белка в организме, у нас не было уже десятки лет. А во-вторых, даже когда было, не воспринималось как трагическая неизбежность, а вызывало жгучий протест и желание бороться. Это записано в русском культурном коде, от которого нам никуда не деться. И чем раньше мы признаем, что для России разрыв свободы и справедливости — это как разрыв сердца, тем будет лучше для всех. Отмывать «чумазого ребенка» все равно придется. И потому, что другого Бог не дал, и потому, что на самом деле только этот нам по-настоящему дорог.
Рождество для бедных детей
Как-то в газете «Сельская жизнь» нам дали несколько читательских писем. Дали, не особенно выбирая — такого там сейчас очень много. Письма из разных областей: из Амурской, Волгоградской, Брянской, Пензенской, Нижегородской, Владимирской. В общем, со всей России.
«Зарплату нам не выдают вообще уже года два. Как же нам детей-то отправить в школу? Наступает зима, морозы. Как нам их одеть, не получая денег?».
«В школе дети с полвосьмого до трех, и все это время без обеда. Денег на столовую у нас нет. Мы просили хотя бы напоить их горячим чаем. Но все ссылаются друг на друга, и никто ничего делать не хочет. Раньше и дети учились лучше, а сейчас дети голодные и сбегают с уроков. Кому учеба пойдет впрок на голодный желудок?».
«Я сама инвалид первой группы. Пенсии хватает на маргарин и жир, даже на хлеб не остается, а у меня трое маленьких детей».
«Я работаю в совхозе телятницей, имею четверых детей. Зарплата очень маленькая (муж у нее в заключении.— Авт.), и мне на один хлеб на пятерых человек никак не хватает, не говоря о других продуктах... Нет больше сил никаких. Часто в газетах пишут, что дети кончают самоубийством от голода. Как бы эта беда не пришла в мою семью».
«Мне сорок три года, имею пятерых детей. Заболела семь лет назад, туберкулез легких. Живем без хлеба, без сахара, детям купить невозможно ничего. Сейчас зима, нужно детям учиться, так они ходят по очереди, так как сапоги теплые одни на троих... Хотела однажды отравиться, но муж не дал, пришел с работы вовремя…».
«Картошки осталось десять ведер, больше нет ничего, мясо все приели. Я уж в церковь ходила просить, чтоб на работу взяли хоть полы мыть, чтоб вот за те куски, что люди в церковь приносят. Но, увы, и там нет работы. Батюшка говорит: “Молись”... Я никогда не думала, что так жить будем. Вермишель раньше мешками стояла, конфеты, печенье всегда, а теперь нет ничего. Ребятишки ревут, и я с ними. Комиссия приезжала и дали им конфет, так они накинулись, словно век не видели. Господи, неужели ничего не изменится?».
Конечно, эти письма свидетельствуют о крайних проявлениях бедности. Массовой нищеты, слава Богу, пока нет. Но просто бедных, обедневших по сравнению со своей прежней жизнью людей очень и очень много. Хлеб и сахар они купить могут. А вот подписаться на привычный журнал, купить диван или поставить у зубного врача коронки — для них уже целое дело. Нам кажется, имеет смысл представить себе, как может «обновление гуманитарного образования» повлиять на детей из таких семей. Еще раз напомним: мы имеем в виду уход от социальных проблем, замалчивание темы социальной несправедливости и фиксацию на благе личной свободы. Каково будет ребенку жить в двух измерениях: реальность будет сообщать ему одно, а учебник и учитель — другое?
Для сравнения обратимся к пока еще недалекому прошлому, в котором тоже, хоть и не в таком количестве, были дети из малообеспеченных семей. Безусловно, жизнь у них была несладкой, и им, как и сегодняшним бедным детям, были свойственны мечты о дорогих игрушках, вкусной еде, модной одежде, отдыхе у Черного моря, зависть к тем, у кого все это есть. Но что им при этом сообщалось в школе (да и не только в школе)? Какой образ мира формировали у них, в частности, учебники по гуманитарным предметам?
Возьмем для примера «Родную речь» и перечислим лишь некоторые темы произведений, читавшихся во втором классе. Защита слабых, взаимопомощь, осуждение равнодушия; народ как монолитная сила, которая и кормит, и ограждает от зла; армия, которая не даст в обиду своих граждан, и в особенности детей; Родина-мать. В данном случае неважно, сколько в этом было правды, а сколько ложного пафоса. Важно другое: у детей формировалось чувство защищенности и появлялась уверенность, что общество не даст им пропасть. Иными словами, у ребенка было множество внешних психологических опор.
Что мы имеем сейчас? На что может опереться ребенок в новой реальности, которая, как теперь модно говорить, «центрирована» на личной свободе? Если он из бедной семьи, то исключительно на самого себя. Следовательно, опора у него только одна, и притом внутренняя. Но реальное желание попробовать свои силы, а затем и опереться на них возникает у людей гораздо позже — в юности. Даже для подростков это в основном демонстрация, а окажись они полностью предоставлены сами себе, без поддержки взрослых — и угроза психического срыва практически неизбежна.
Ребенок же при опоре только на свои силы не может нормально развиваться. Не может по одной простой причине: этих сил еще слишком мало. Их надо накопить. А если весь интеллектуально-психологический ресурс будет уходить на самосохранение, что тогда останется на развитие?
А какие чувства постепенно поселятся в душе такого ребенка? Прежде всего чувство оставленности, растерянности, обиды, страха. Потом — очень скоро — придут озлобленность, агрессия, цинизм. Это тоже своеобразное накопление ресурса. Только ресурса отрицательного, ведущего к психическим искажениям. Показательно, что среди детей, просящих милостыню (то есть рассчитывающих исключительно на свои силы), по данным XII психиатрического конгресса, лишь 6 процентов может быть признано психически нормальными. (Мы, честно говоря, полагаем, что и эта цифра чересчур оптимистична.) На том же конгрессе приводились данные и по более благополучным категориям детей. Например, по тем, которые, в отличие от нищих, ходят в школу. Статистика тоже неутешительная. 70–80 процентов школьников страдают теми или другими нервно-психическими расстройствами, причем наблюдается выраженная тенденция роста подобных заболеваний.
Какова могла бы быть роль учителя в предлагаемых обстоятельствах? Он мог бы сыграть амортизирующую, а следовательно, стабилизирующую роль. Но для этого надо остаться русским интеллигентом, то есть восставать против несправедливости. И тогда хотя бы одна, но очень важная внешняя опора у ребенка из бедной семьи будет. В «России, которую мы потеряли», дело именно так и обстояло. На стороне обездоленных была вся русская классика, а учитель, насколько мог, служил ее проводником. Если же разговор о бедности, о социальном неравенстве и, главное, возмущение этим неравенством будет в школе табуироваться, если ребенку дадут понять, что про это не говорят (ведь сейчас тема секса растабуирована, и «свято место» пустует), то у него появится дополнительный и очень сильный источник невротизации.
И расчет, что у нас будет, как на Западе,— дескать, ребенок, усвоив с детства, что бедность — это «его проблемы», будет лишь активнее пробиваться наверх,— подобный расчет представляет собой очередную химеру. Мы вслед за рядом крупных философов и культурологов склонны считать, что конкурентность не есть доминирующая черта русского характера. А наша работа с детьми-невротиками многократно убеждала нас в том, что жизнь в соревновательном режиме для их психики просто губительна. К таким детям неприменима логика, что самый простой путь — это путь прямой. Поясним на примерах. Казалось бы, чего проще — ответить, как тебя зовут. Но это для ребенка с устойчивой психикой. А нервный ребенок может дать самую парадоксальную реакцию: закрыть лицо, спрятаться за спину матери или под стол, зарыдать и выбежать из комнаты. То есть вроде бы страшась людского внимания, он своим поведением как раз это внимание привлечет. Или, предположим, уроки. Сколько мы видели детей, которые способны все сделать за полчаса, но тратят на это целый вечер, лишая себя прогулки, телевизора, доводя до исступления родителей!
Так что не надо строить иллюзий: большинство детей из числа малообеспеченных будут психологически неспособны на длительный, упорный труд и довольствование малым в сочетании с предприимчивостью и гибкостью — а этот комплекс как раз и необходим в рыночных условиях для достижения «маленького личного счастья в укромном уголке», к которому призывают авторы новых гуманитарных учебников. Тем более что «укромный уголок», во-первых, нынче недешев, а во-вторых, современные установки, реклама и прочее формируют как идеал образы, ассоциирующиеся вовсе не со скромным достатком, а, по выражению О. Мандельштама, с «бандитским шиком». Социологи, занимающиеся проблемами молодежи, уже отмечают огромный разрыв между реальными возможностями молодых людей и уровнем их притязаний, и этот разрыв с ростом социального расслоения будет только увеличиваться.
Поэтому разумнее представить себе реальную судьбу множества сегодняшних детей. Самые слабые постараются уйти от реальности в алкоголизм, наркоманию, бродяжничество. С соответствующим качеством труда и потомства.
Более шустрые и честолюбивые будут всеми способами завоевывать себе место под солнцем. Но опять-таки не честным трудом и пуританским образом жизни! Портрет советского карьериста памятен, наверное, многим. И вряд ли у кого-то (и уж тем более у людей, лично столкнувшихся с подобными персонажами) вызывает симпатию. Но декларируемые тогда установки — честность, взаимопомощь, презрение к подлости — хотя бы отчасти сдерживали карьерный раж. Нынешние же установки не только не противовес, а, можно сказать, попутный ветер для карьериста. Лицемерие, эгоизм, продажность, способность на любой подлог — эти и многие другие столь же «приятные» качества расцветут (и уже расцветают) пышным цветом. Каково будет работать с такими людьми, общаться, создавать семью?
Весьма реально и то, что традиционно называется кривой дорожкой,— уход в криминальный мир. И сегодняшняя-то статистика выглядит угрожающе. Например, всего за год общий уровень преступности увеличился в 1,3 раза, а кражи, грабежи и разбои — почти в 1,5 раза. Неуклонно растет количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и наркотиков. Особенно печально то, что из всего объема уголовно наказуемых деяний каждое одиннадцатое совершено несовершеннолетними или при их соучастии.
Мы берем на себя смелость утверждать, что уход от социальных проблем в школьном образовании не смягчит, а значительно усугубит эту картину. Вы спросите, какая связь? Самая непосредственная. Учитель, отгораживающийся от борьбы с несправедливостью, в условиях русской культуры автоматически выбывает из списка порядочных людей. И соответственно, утрачивает право и возможность влиять на ребенка, перестает быть авторитетом. А у детей и подростков, тяготеющих к криминальной среде, потребность в авторитете гораздо выше, чем у детей обычных. (Кто не верит, пусть перечитает хотя бы «Педагогическую поэму» А. Макаренко.) Бедные и нередко спившиеся родители — какой это авторитет для мальчиков, жаждущих яркой, полной острых и сильных впечатлений жизни? И тут совершенно естественно актуализируются криминальные авторитеты, которые, кстати, с готовностью предоставляют ребенку и внешние опоры. Ведь мафия — уродливая замена модели традиционного общества с его патернализмом, семейными связями. Недаром там приняты такие клише, как «семьи», «кланы», «крестный отец», «братва».
Еще раз подчеркнем, что по трем описанным нами путям пойдет не жалкая горстка людей, а большие социальные группы. И, понятное дело, это не будет способствовать оздоровлению общества. Уже сейчас профессионалы отмечают рост депрессий, агрессивности, неудовлетворенности качеством жизни. А психический дискомфорт ведет к ухудшению здоровья и прежде всего к развитию сердечно-сосудистых, онкологических, легочных заболеваний (что четко прослеживается и по статистике последних лет). Так что «больной», которому наш политический консилиум решил сделать без его ведома серьезную хирургическую операцию, не выздоровел. Но и не помер. В общем, ничьих надежд не оправдал. И теперь его придется долго и за дорого лечить. А он еще периодически впадает в буйство и норовит хватить кого-нибудь по голове.
Ну а если серьезно, то общество не может вечно находиться в состоянии депрессии. И часть молодежи будет искать выход, отвечающий ее архетипическим культурным представлениям о норме, о нравственной полноценности. Не удовлетворившись школьным преподаванием, молодые люди сами возьмут в руки русскую классику. Прочитают внимательно, с упором на смысл, соотнося прочитанное с личным опытом и личными переживаниями. (На то она и классика, чтобы каждое поколение находило в ней мотивы, созвучные современности.) Бедные дети начала третьего тысячелетия совсем не так, как их родители, воспримут и Короленко, и Тургенева, и Некрасова, и Куприна, и Радищева, и многих-многих других писателей. Вот тут и будут обретены те самые опоры, которых вовремя не дала жизнь. Но это будут уже не просто опоры, а нечто динамичное, заряженное и заряжающее энергией. (В технике есть даже специальный термин — «активная опора».) Так всегда бывает, когда человек долго чего-то жаждал и наконец получил. Через головы тех, у кого повернулся язык сказать «маленькому человеку»: «Это твои проблемы», молодым протянут руки настоящие Учителя. И скажут: «Нет никаких твоих проблем, а есть наша общая боль, общий позор. И общее дело».
Мы хотели на этом главу закончить, а потом вспомнили один эпизод. Дело было под Рождество. Нас пригласили на представление, которое показывали приехавшие в столицу провинциальные школьники. И все вроде бы было прекрасно: о детях позаботились, их приобщили к культуре, устроили им праздник, привезли в столицу. Словом, все было, как раньше, только показывали они уже не литературно-художественный монтаж со стихами Барто и Михалкова, а Рождественский вертеп. Тоненькие детские голоса славили Рождение младенца Христа, и растроганные зрительницы поспешно доставали из сумочек носовые платки. Но нам что-то мешало испытать запрограммированное умиление. И скоро мы поняли, что именно. Когда мы шли к подвальчику, где все это происходило, подъезд к дому был забаррикадирован чьими-то иномарками. Это была одна реальность. А когда в зале погас свет, софиты высветили другую реальность: худые и бледные лица детей, ноги, напоминавшие макаронины. Педагоги искренне считали, что они внесли свой скромный вклад в возрождение России. А мы и теперь уверены, что, по сути, они (конечно, не желая того) предали детей, ибо признали, что жизнь, в которой соседствуют две такие реальности, незыблема. Признали, что каждому свое, и в этой подлой ситуации учили детей смирению.
Что ж, лучшего рождественского подарка власть получить не могла.
Новая русская Касталия
Вы заметили, что слово «элита» звучит сегодня все чаще и уверенней? По расхожести оно уже вполне сопоставимо со словом «демократия». Более того, если к любимым словосочетаниям политологов типа «правящая элита», «властная элита», «региональные элиты», «борьба элит» еще можно худо-бедно подобрать «демократические» аналоги, то в сферах, далеких от политики, рейтинг элитарности куда выше. Попробуй скажи: «демократическая мебель», «демократические сорта кабачков», «демократические дома, меха, отдых... образование»…
Показательно и заметное смещение смыслового акцента. Если раньше слова «элитный», «элитарный» обозначали «лучший», то сегодня это прежде всего значит «для избранных», то есть для богатых. (Правда, кабачков это не коснулось. Даже самые элитные сорта могут стать достоянием широких масс.)
Так что, слыша теперь про элитарное образование и элитарные лицеи, наши сограждане уже понимают, что речь идет не столько о качестве образования, сколько о социальном составе учащихся. И спрашивают обычно не о том, чему там учат, а сколько это стоит.
Мы же поинтересовались первым. И узнали, что именно такие школы в первую очередь поспешили воспользоваться новыми гуманитарными учебниками. И это совершенно естественно. Идеология подобных учебников, по сути, элитарна. Это и есть идеология нарождающегося в России нового правящего класса. Вот кому новое образование призвано обеспечить психические опоры.
— Ну и хорошо! — скажут нам.— Пусть хоть кто-то выиграет в этой жизни. Пусть хоть кому-то перепадет. Хоть кто-то вырастет нормальным человеком. А там, глядишь, элитарная идеология окрепнет, наберет силу и получит достаточное количество приверженцев.
И действительно, если в случае с бедными детьми максимальное заглушение темы социальной несправедливости, так волновавшей умы русской дореволюционной интеллигенции, безоговорочное осуждение восстаний и революций, повышенное внимание к теме отдельной личности, упор на индивидуальное счастье — все это идет вразрез с их истинными интересами, то интересам богатых детей это соответствует прямо-таки идеально.
Все вроде бы логично, но не будем забывать, что существует понятие бредовой логики. Например, шизофреники могут рассуждать в высшей степени логично, но если спуститься по ступенькам их умозаключений вниз, к базовой, исходной посылке, то окажется, что в основании стройной системы лежит фантом, миф, мираж.
Поэтому нам кажется небесполезным пройти несколько ступенек вниз и посмотреть, на каком же реальном основании будет покоиться предполагаемая идиллия.
Конечно, для создания психологического комфорта лучше всего было бы воспитывать богатых детей совершенно изолированно от мира бедных. Но это, увы, недостижимо, ибо даже из окна «мерседеса» ребенок может увидеть нищих с протянутой рукой или подбежавшего к тому же «мерседесу» мальчишку с тряпкой для протирки стекол. И живут богатые и бедные пока что вперемешку, а не в разных районах. (Порой даже в одних и тех же домах.) Да и по телевизору то объявят про голодовку обнищавших шахтеров, то про забастовку не менее обнищавших учителей и врачей. В общем, проблему бедности не обойти никак, и приходится волей-неволей что-то ребенку объяснять. И не просто объяснять, а формировать правильное (по мнению богатых родителей) отношение.
Собственно говоря, мы об этом уже писали и даже вкратце рассмотрели три варианта бытующих установок. Теперь мы остановимся на них подробнее и рассмотрим возможное влияние этих установок на психику элитарного ребенка. А также возьмем на себя смелость сделать какие-то прогнозы.
Антагонистический вариант («бедные сами виноваты, потому что лентяи и пьяницы»), по сути, дает установку на презрительное отношение к неимущим. Но презрение, если можно так выразиться, недетское чувство. Нормальный ребенок по природе не высокомерен. И это даже биологически оправданно, потому что высокомерие резко сужает круг интересов и общения, а значит, и познания мира. Нельзя быть одновременно высокомерным и пытливым. Кроме того, классовое презрение в демократическом XX веке непременно должно подзаряжаться агрессией (ведь уже нет испокон веку установленных сословных перегородок, и презрение к низшим классам необходимо жестко мотивировать, иначе возникают вполне оправданные сомнения). Но агрессия и для взрослой-то психики разрушительна, а для детской тем более.
И это еще не все. Давая подобную установку, родители обрекают ребенка на ответную ненависть, ибо в этом случае традиционно негативное отношение к богатым будет многократно усилено. Мало того, что ты «новый русский», так ты еще и нос воротишь?! То есть ребенок будет жить в ощущении постоянной угрозы, исходящей от огромного враждебного мира. (Ведь процент бедных намного превышает процент богатых.) Причем угроза эта не диффузная, не «вообще», а направленная конкретно на него. Сейчас и самые обычные дети склонны к повышенной тревожности и страхам. Что же говорить о тех, которые напоминают броскую мишень? И никакой телохранитель тут не поможет. Душу-то он не охранит. В раннем возрасте «антагонистический» вариант вызывает у детей болезненные страхи, в подростковом — повышенную агрессию (в основе которой лежит все тот же неизжитый страх, порождающий патологические формы защиты). А это прямой путь к хулиганству и уголовщине. Будет ли способствовать разрешению внутреннего конфликта «обновленное» образование? Думаем, нет, потому что оно этот конфликт тщательно замазывает, уводя ребенка в другой мир. Но реальность настолько ярче и убедительней учебников, что и уходить от нее надо гораздо более эффективными способами. Что такие дети и делают. Недаром среди «новых русских» одна из важнейших проблем — проблема наркомании их детей. И смешны объяснения, что, дескать, у богатых подростков много денег на карманные расходы. (Как будто кроме как на анашу деньги девать некуда!) И наркоман, и алкоголик — это люди прежде всего неустойчивые, не находящие в реальности достаточно прочных опор.
А описанные нами дети с ранних лет попадают именно в такую ситуацию. Что может дать опору душе, которую разъедает агрессивное презрение? Причем презрение к слабым, совсем уж омерзительное в нашей культуре? Катарсическое чувство стыда. А именно это спасительное бремя с души таких детей и снимают! Сначала родители, а потом и школа.
Отстраненный вариант сводится к тому, что жизнь бедных — это чужая жизнь. А надо интересоваться своей. В одном элитарном лицее нам даже так и сказали: «У нас кастальское братство. А то, что творится за окном, нам просто неинтересно». (Как вы догадываетесь, это сказал интеллигентный человек, читавший «Игру в бисер».) То есть это вариант кастовой обособленности, в основе которого лежит равнодушие. В отличие от первого, он эмоционально не заряжен и поначалу кажется более благоприятным для психики, поскольку ее не разъедают агрессия и презрение.
Но только человек, совсем уж не знакомый с детской психологией, может предположить, что ребенку под силу отдифференцировать, чем стоит интересоваться жителю Касталии, а чем не стоит. Тем более что в современном мире, где все так перемешано и переплетено, и взрослому весьма непросто отделить зерна от плевел. Скажем, элитарность искусствоведения не вызывает сомнения. И лицеисты-кастальцы идут в Третьяковскую галерею. А там куда ни посмотри — везде народ! Ведь русская живопись очень демократична. И детей — так уж они устроены — особенно заинтересует жанровая, сюжетная живопись, а не пейзажи, натюрморты и даже портреты. Поэтому в память им врежутся прежде всего Перов, Репин, Федотов, Суриков. И примеров подобных тьма.
Поэтому будучи не в состоянии произвести тонкую дифференциацию, ребенок включит в категорию «чужих» людей вообще. Чтобы упростить непосильную задачу. В психиатрии это называется аутизацией. Аутизм, патологическая отгороженность от мира, считается тяжелейшим психическим недугом. (Между прочим, число аутистов год от года растет.) Но аутизироваться под влиянием определенных жизненных обстоятельств могут и вполне нормальные люди. Например, оглохший человек или инвалид, тяжело переживающий свое увечье. Так вот, детей-«кастальцев», по существу, провоцируют на аутизацию.
Можно, конечно, возразить, что зато у них будет богатый внутренний мир и что самодостаточный человек более независим, а независимость — путь к счастью. Но советуем таким оптимистам сперва пообщаться с родителями аутичных детей и со специалистами, которые буквально кладут жизнь на то, чтобы хоть как-то их социализировать. Эти люди подтвердят, что под толстым панцирем равнодушия у аутистов прячутся запредельные страхи. Отгороженность от мира неизбежно приводит к трудностям в установлении контактов, а это, в свою очередь, затормаживает развитие человека (что, разумеется, в корне противоречит интересам элиты, ибо высокий уровень развития — залог ее статусного выживания). С независимостью дело обстоит тоже весьма прискорбно. Не ориентируясь в чужом, неведомом мире, человек остро нуждается в поводыре. Без него он просто нежизнеспособен.
Что же касается счастья, то надо видеть, как просветляются лица аутичных детей, когда им, пускай на мгновение, удается установить нормальный человеческий контакт. Тому, кто это видел (а мы видели, и не один раз), совершенно ясно, что патологическое стремление к одиночеству парадоксальным образом сопряжено у аутичных людей с безмерным страданием от этого самого одиночества. И обрекать на подобное — даже в малой степени — здоровых детей можно только от вопиющей непросвещенности. Или от тотального отсутствия воображения.
Дадут ли психическую опору таким детям обновленные учебники? Естественно, нет, потому что они воспитательную установку на обособление продолжат и разовьют.
Ну, и что же будет? А то, что «новые русские кастальцы» и во взрослом возрасте будут напоминать детей. Причем детей, лишенных иммунитета, а потому обреченных на жизнь в условиях барокамеры. Инфантильные, с неповзрослевшей, ибо не пробужденной для сострадания душой, они не смогут устроить даже собственную жизнь. Какой уж там разговор о жизнеустройстве общества! В условиях жесткой конкуренции, тем более в такой кризисный период, место этих эрудированных недорослей будет отнюдь не у пульта управления государством, а в лучшем случае у компьютера. (Кстати, если говорить о компьютерной наркомании, об уходе в виртуальную реальность, то именно такие дети представляются нам первыми кандидатами в группу риска.)
В свете вышеизложенного, очевидно, благоприятный для психики — это вариант, который мы условно назвали гуманистическим («бедных жалко, им надо оказывать посильную помощь, но менять сложившийся порядок вещей — абсурд»). Такая позиция не отгораживает от мира и не ведет к конфронтации с ним. Справедливости ради отметим, что более или менее интеллигентные «новые русские» (которые, кстати, зачастую болезненно реагируют на это клише) придерживаются именно гуманистической воспитательной установки. Но, увы, и она далеко не безопасна, ибо ребенок, чуть повзрослев, узнает, что тот порядок вещей, который преподносился ему как данный от века, установлен совсем недавно его родителями. Одновременно с этим он узнает и о разграблении народной собственности, благо, об этом говорится на каждом углу. Интеллектуально полноценный ребенок достаточно скоро свяжет два эти обстоятельства и окажется перед весьма драматичным выбором. На одной чаше весов будут родители, которых он не только любит, но которым еще и целиком обязан своим комфортным существованием. На второй же чаше... ох, много чего там окажется: и архетипическое тяготение к справедливости, и личная совесть, развитая культурным воспитанием, и пробужденная каким ни есть обновленным, но все же образованием чувствительность, и независимый ум, который особо ценится в подобной среде.
И получится, что гуманистическая установка, в раннем детстве действительно дававшая ребенку психологическую опору, потом, в период взросления, неожиданно выступит в роли катализатора внутреннего конфликта, поскольку на этом этапе жизни будет лишь усугублять чувство вины.
Подросший и поумневший ребенок поймет, что помощь бедным, выдаваемая за благодеяние,— это лишь жалкие крохи от недавно украденного у тех же бедных пирога. И что бедные до того, как у них украли пирог, не были такими бедными и вполне могли обойтись без благодеяний богачей. И сколько сыну ни рассказывай, что работаешь в поте лица по двадцать пять часов в сутки, рано или поздно он задастся вопросом о «первоначальном накоплении капитала». А поскольку быльем это порасти не успеет, непременно найдутся люди, которые прочтут подросшему ребенку краткий курс политэкономии нашей жизни и доходчиво объяснят, что даже в золотой период постсоветского Клондайка на раскрутку частного бизнеса требовались достаточно большие деньги, каких честным трудом и тогда не наживали.
Нас спросят: «Ну и куда они денутся со своим внутренним конфликтом? В революционеры пойдут, что ли? Неужели в этой стране, несмотря на горький исторический опыт, кто-то снова будет рубить сук, на котором сидит?».
Кто-то — непременно, можете не сомневаться. И чем нравственней будет воспитание (а похоже, сейчас даже власть несколько обеспокоена падением нравов), тем труднее станет человеку усидеть на этом суку.
Можно, конечно, попробовать отгородиться, уйти в развлечения, дружбу, романы и прочее. В подростково-юношеском возрасте к этому есть все предпосылки, а в богатой среде — еще и все условия. Но «момент истины» у развитого человека все равно наступит, и если образ жизни останется прежним, беззаботность естественная может перерасти в беззаботность неестественную, показную. А отсюда совсем недалеко до цинизма — свойства, грубо деформирующего личность. Если же не обрасти коркой цинизма, произойдет душевный надлом со всеми вытекающими из этого последствиями (наркомания, алкоголизм, суицидальные мысли и попытки, пониженная сопротивляемость к воздействию уголовного мира — короче говоря, знакомый джентльменский набор).
Опять же зададимся вопросом: чем могло бы помочь в данном случае гуманитарное образование? И вообще, могло бы оно что-то сделать?
Теоретически — да. Причем именно заостряя внимание на любимых темах русской литературы, учитель должен был бы внушать богатым детям, что их долг, когда они вырастут, постараться изменить положение вещей. И что тот, кто не хочет революций (а революции — это обязательно кровь, насилие и горе), прежде всего не доводит людей до крайности. И что лучшие люди в России, среди которых, кстати, было много богатых, это понимали. И что идти на уступки надо не когда тебя загоняют в угол и тебе ничего больше не остается, а хотя бы немного раньше. Потому что люди не собаки, чтобы бросать им кость, и барские жесты вызывают только озлобление.
А еще учитель-гуманитарий должен был бы доносить до своих воспитанников весьма гуманную или гуманистическую (это кому как нравится) мысль: если они, наши «новые русские дети», не поймут, что Россия всей своей культурой и историей обречена на справедливое переустройство общества, не только у страны в целом, но и лично у них не будет ни счастья, ни покоя. Уж такая здесь жизненная основа, и отрицать ее не только бессмысленно, но и губительно. Для всех.
Но, скорее всего, будет по-другому. Учителя частных школ побоятся потерять место. И в оправдание произнесут до боли знакомую фразу: «А что мы можем? От нас ведь ничего не зависит». (Уже боятся. Уже произносят.) Родители постараются отправить детей за границу (уже отправляют), опять-таки не предвидя многих последствий, но об этом мы поговорим далее.
Власть же... власть поступит традиционно. (Тем более что она у нас теперь тоже за культурные традиции.) Суммировав достижения царской и советской России, она поведет (да и уже ведет с помощью расторопной интеллигенции) наступление на «вредные веяния». Уже высказываются авторитетные мнения о том, чтО считать настоящей классикой, а чтО — ненастоящей. Скажем, поздний Пушкин, монархист и государственник,— «настоящий», а ранний, вольнолюбец,— нет.
В новое прокрустово ложе втискивается бесчисленное множество исторических событий и лиц. Даже отец Павел Флоренский, казалось бы, кумир последних десятилетий, объявлен «временно впавшим в бесовскую прелесть» за то, что он осудил казнь лейтенанта Шмидта.
Сокращается объем классики в школе, и уже идут разговоры о том, что русскую классическую литературу надо бы преподавать лишь в двух последних классах, до которых «в наше трудное время» доучатся далеко не все.
Ну а в Калининградской области повторили еще и зарубежный опыт полувековой давности. В бывший пионерский, а ныне школьный лагерь, что на Куршской косе, приехали «начальники по образованию» (так выразились местные жители). Привезли «детективы и всякую другую глупость» (опять цитата), а русскую классику из библиотеки изъяли и прямо на месте сожгли. Надо же, как почва влияет! Тут волей-неволей станешь мистиком. Особенно, когда, проехав километров сорок по побережью, видишь великолепный особняк и узнаешь от старожилов, что это — чудом уцелевшая при бомбежках Восточной Пруссии дача Геббельса.
Федя и тирольские шорты
Представление о Западе как об идеальной человеческой обители традиционно для русской культурной среды. Но если в дореволюционную эпоху Запад был просто ценностью, то в эпоху советскую, когда для большинства он стал физически недосягаем, ценность, естественно, разрослась до размеров сверхценности. В брежневское время Париж стоил не только мессы. Он стоил всего. В этом, собственно говоря, и заключается смысл сверхценности: никакая цена, отданная за нее, никакая жертва не кажется чрезмерной или неоправданной.
Под таким углом зрения становится более понятным, почему сегодня так много людей оказалось готово продавать стратегическое сырье и военные тайны. Размах этой продажности может вызвать (и вызывает!) саркастическую усмешку. Дескать, где же ваши культурные установки? Вон как «рашены» деньги любят! Не то что военную тайну, а мать родную продадут, лишь бы карман набить. И на это нечего было бы возразить, если бы за получением «заслуженного вознаграждения» не следовала покупка недвижимости за границей. Вот она, истинная цель — застолбить кусок (или кусочек) западной территории! И чем вознаграждение больше, тем территория западней. Вплоть до Западного полушария.
Можно, конечно, сказать, что, совершив преступление, люди часто уходят в бега. Но, во-первых, затеряться гораздо легче где-нибудь на Востоке, в Гималаях, а во-вторых, русская Фемида нынче либеральна, особенно к вороватому истеблишменту. Так что дело не в этом. Дело, с позволения сказать, в культурной ориентации.
И нет ничего удивительного в том, что отправка «новыми русскими» своих отпрысков за границу воспринимается бывшими советскими гражданами как безусловное благо. Нелепо было бы утверждать, что «исход» «новых русских детей» принял массовый характер (просто потому, что и взрослых «новых русских» не так уж много), однако явление это не единичное, и его стоит рассмотреть. Причем в двух аспектах: какие последствия это будет иметь для них самих и какие — для общества.
Посылая ребенка в учение за рубеж — надолго, а не на пару месяцев, родители обычно представляют себе что-то вроде Царскосельского лицея или Пажеского корпуса. «Уж если дворяне,— думают они,— воспитывали своих детей вдали от семьи, значит, дело того стоит».
Но ведь это идеал совсем другого времени. Времени, когда в привилегированных сословиях была другая дистанция между родителями и детьми. Отношения были весьма почтительными, но отнюдь не доверительно-дружескими. От матерей и тем более от отцов не требовалось гулять с детьми, строить из кубиков дворцы, читать на ночь книжки, затевать шутливую возню с мальчиками, стряпать на кухне с девочками — короче, делать все то, что демократический XX век включил в категорию нормальных родительских обязанностей. И несоблюдение чего воспринимается окружающими и самим ребенком как яркий признак родительской нелюбви.
Вы спросите: «А как же Англия? Там ведь до сих пор сохранились пансионы для детей аристократов».
Но там и медвежьи шапки королевской стражи сохранились. И привычка интересоваться каждым чихом королевской фамилии. Да, наконец, и сама королева сохранилась! А аристократы до сих пор меряются длиной своих генеалогий и выясняют, кто истинный герцог, а кто — парвеню, поскольку его герцогскому титулу всего каких-нибудь жалких триста лет.
Если же вернуться к нашим баранам, то сколько ни произноси, словно магическое заклинание, «частный пансион закрытого типа», за ним все равно будет упрямо проглядывать слово «интернат». А в каких случаях у нас отдают ребенка в интернат? В случаях его инвалидности, инвалидности родителей либо при их социальной несостоятельности (например, низкооплачиваемая мать-одиночка) и/или морально-психической деградации.
Кстати, мотив родительского невнимания и даже заброшенности весьма типичен для детей «новых русских». «Пусть бы папа зарабатывал поменьше, зато играл бы со мной побольше»,— фразы, подобные этой, звучат сегодня очень часто. И гораздо чаще, чем у обычных детей, у «новых русских» появляется злая мечта поменять родителей. А также зависть к знакомым ребятам, которым отцы уделяют больше внимания.
Так что представления взрослых о том, что близость отца и матери можно заменить «огнями большого города» (или маленького английского графства — признак запредельной элитарности),— подобные представления, увы, лишь диагноз. Диагноз, говорящий о психологических проблемах самих взрослых. Это они готовы были отдать все на свете, чтобы хоть один раз одним глазком взглянуть на настоящую жизнь, «увидеть Париж — и умереть». Но для их детей эти мечты дворовых крепостных уже неактуальны. Они не болеют болезнью, которую можно назвать «русским Западом». Запад для них не сверхценность, ибо он доступен. Точно так же, как и весь западный антураж, от которого шалеют люди, много лет жившие с ощущением, что они выросли на помойке.
Поэтому у «новых» детей на первый план выходят старые ценности. Если можно так выразиться, ценности человеческих отношений. Тем более, когда ребенок поставлен перед необходимостью адаптироваться к другой культуре, языку, образу жизни. Ведь тут, казалось бы, гораздо больше, чем всегда, требуется поддержка родителей. А именно разлука с ними и входит в изменение образа жизни как важная составляющая.
Но разве родители не могут и на расстоянии оказывать поддержку ребенку? В какой-то степени — да. Например, силой своего авторитета. Особенно если этот авторитет может быть предъявлен окружающими. Ну, скажем, громкое имя, титул, заслуги предков, национальные корни, которыми можно гордиться. В сегодняшней западной реальности это было бы более чем уместно. Не надо же серьезно относиться к мифам об «общеевропейском доме», где якобы никому нет дела араб ты или индус, англичанин, немец или испанец. Ну, насчет арабов с индусами достаточно увидеть пару телесюжетов про демонстрации (а то и погромы), направленные против цветных иммигрантов... Между «настоящими» европейцами сейчас, конечно, таких выраженных антагонизмов нет (хотя англичане не преминут сказать вам какую-нибудь гадость про французов, те — про немцев etc.). Но все прекрасно помнят, у кого какие этнические корни. Человек может сорок лет прожить в Германии с женой-немкой, считаться крупным немецким художником, однако при каждом удобном случае и даже совсем не к месту напоминать окружающим, что он австриец. А его внук уже к пятилетнему возрасту твердо усваивает, что в его жилах течет не только немецкая, но и австрийская кровь. И на дедушкином юбилее гордо дефилирует перед собравшимся бомондом в старинных тирольских шортах, до слез умиляя гостей песней с горловыми трелями, напоминающими весенние крики павлинов.
Наверно, излишне напоминать, что все выходцы из России, независимо от национальности, считаются за границей русскими. Так же как и доказывать, что отношение к русским на сегодняшний день, мягко говоря, не самое благоприятное. Нет, оно непохоже на ярую ненависть, которой нас любит пугать патриотическая пресса. Скорее, это снисхождение цивилизаторов к варварам. И чем варвар больше жаждет цивилизоваться, тем большей теплотой окрашено такое снисхождение.
А наилучшее отношение возникает тогда, когда цивилизационный процесс завершен. После того как варвар меняет свои глубинные этические установки, перестает не только говорить, но и думать, как индеец, негр или поляк (в Америке), к его выхолощенной культуре можно даже проявить определенный интерес. Так, в Мексике сейчас очень интересуются цивилизацией ацтеков. Правда, самих ацтеков давно уже нет, и никто толком не представляет себе, о чем они думали, что чувствовали и даже сколько у них было богов (ну, хотя бы приблизительно: число их колеблется в разных ученых трудах от двух до... нескольких десятков!). Зато флейт, фигурок из обсидиана, орнаментов, плюмажей — пруд пруди. И на пирамидах по вечерам устраиваются красочные «ацтекские» шоу. В общем, если вспомнить наше старое сравнение насчет внутренних органов (то есть глубинных основ культуры) и кожи (более внешних, формальных признаков), то ацтекской «кожи» сейчас в Мексике предостаточно. Как и разговоров о ее неповторимых, уникальных свойствах.
Вы скажете: «Ацтеки — мертвая цивилизация, а такие цивилизации всегда вызывают у человечества повышенный интерес». Хорошо. Возьмем американских и африканских негров. У первых от негритянской культуры и в переносном, и в самом прямом смысле слова осталась только кожа. Но посмотрите, какую огромную роль она играет в искусстве и моде США. В то же время дух негритянской культуры был вытеснен западной цивилизацией, и теперь если и существует, то разве что в виде кича. Если кто заинтересуется этим вопросом подробней, отсылаем его, в частности, к знаменитой книге «Малькольм Икс», автобиографии очень известного, как теперь принято говорить в США, «афроамериканца». Казалось бы, в такой ситуации сам Бог велел обратиться к цивилизации Африки, которая не только жива, но и вполне пассионарна. Ряд футурологов даже предрекает черной расе главенство на земном шаре! Безусловно, отдельные люди — профессионалы и любители — этим интересуются. Но разве такой интерес формируется в массовом сознании Запада? Ни в коей мере. Скорее, наоборот. Глубинные основы культуры, энергетически заряженное культурное ядро, которое активно сопротивляется белым цивилизаторам, всячески демонизируется в общественном сознании. (В этой связи любопытно сравнить отображение культа воду в американской книго- и кинопродукции и в произведениях Ж. Амаду, где водуизм — неотъемлемая часть своей культуры.)
Вы спросите, при чем тут какой-нибудь Федя, которого богатые родители послали в элитарный заграничный интернат? Он что, ацтек? Или, упаси Боже, негр? Нет, Федя, конечно, не ацтек, но у Феди тоже есть своя гордость. И между прочим, побольше, чем у среднего ребенка! Дети «новых русских», по нашим наблюдениям, как правило, намного амбициознее и конкурентнее, чем все остальные.
Учась в аристократическом заведении, Федя видит, что западные дети гордятся своими культурно-историческими корнями. Образно говоря, тирольскими шортами предков. А он что предъявит? Надеемся, из предыдущих глав уже достаточно ясно, насколько чужд весь образ жизни «новых русских» традиционной русской культуре. И как дискомфортно чувствует себя ребенок при столкновении одного с другим. Когда человеку больно, он инстинктивно принимает позы, позволяющие избежать боли или хотя бы ее притупить. Не случайно дети «новых русских», если сравнивать их со сверстниками из средних культурных семей, читают гораздо меньше (особенно русскую классику), предпочитая импортный конструктор, видео и компьютер. Так зачем же, уехав за тридевять земель, они будут вспоминать то, от чего им делается неуютно?
Что же касается атрибутов, которые мы назвали «культурной кожей», то у русской элиты собственной национальной атрибутики просто нет. И нет уже очень давно, с незапамятных времен. Европейскими тут были не только мода, мебель, архитектура, танцы, манеры, но и язык, на котором говорили аристократы. Конечно, есть богатая народная культура, но, опять же, начиная с петровских времен, возникло — сперва насильственное, а потом уже и органичное — отторжение от нее, порой доходившее почти до отвращения. Не будем сейчас останавливаться на влиянии Арины Родионовны, на теме славянофилов и западников, а также на позднем советском периоде, когда старая элита (из крестьян) млела от пения Л. Зыкиной, а элитарные дети и особенно внуки брезгливо морщили носы. Скажем только, что теперь и в этом, как и во многом другом, происходит усугубление тенденции. (Мы думаем, именно под данным углом зрения интересно посмотреть на замусоривание современного языка англо-американскими словами и выражениями. Налицо жалкая попытка создать особый элитарный язык. Жалкая потому, что в условиях демократии этим языком может воспользоваться кто угодно, любое «быдло».)
Так вот, сто пятьдесят лет назад маленький Федя в ответ на старинную тирольскую песенку спел бы французскую. Сейчас он тоже не будет петь «Во саду ли в огороде» или играть на балалайке «Барыню», а исполнит что-нибудь американское. Как отреагируют на это в Европе, думаем, ясно. Помнится, в Германии, когда мы показывали в самых разных аудиториях видеозапись наших занятий с детьми, зрители, как по команде, начинали иронически закатывать глаза, посмеиваться и переглядываться при виде куклы Барби. «Ох уж эта Барби!» — сокрушенно вздыхали они и недвусмысленно давали нам понять, что в приличных немецких семьях американская игрушка — персона нон-грата. У французов и англичан неприятие американской массовой культуры выражено еще более ярко.
В Штатах реакция, разумеется, будет иной, но и она тоже вряд ли обрадует нашего мальчика. Он ведь претендует не на снисходительное одобрение, а на лидерство, главенство. Если наши российские рокфеллеры пока еще и уступают американским, то уж во всяком случае не в сфере личного потребления. А наш герой именно этот показатель берет за основу соотнесения себя с другими. Воспитанный на том, что в его среде домик за один миллион долларов называется скромным (см., например, журнал «Домовой»), он вряд ли захочет мириться со своей второсортностью. Только отсюда, из России, кажется, что сам факт попадания за границу уже как бы гарантирует сертификат качества. Там, на месте, выясняется, что ничуть не менее важно, кто ты, откуда, чей. (Юный Клинтон, принадлежавший к американской элите, безусловно, получил сильный удар по самолюбию, приехав на учебу в Англию. Аристократы, учившиеся в Оксфорде, не желали признавать его равным. Сегодня, по свидетельству очевидцев, ситуация мало изменилась.)
Ну а что если Федя все же будет как-то обозначать свою принадлежность к русской культуре: играть на балалайке, петь русские песни, говорить о Пушкине как о лучшем в мире поэте, а о Москве как о третьем Риме? В качестве одноразовой акции это, скорее всего, воспримут благожелательно. Но если в Федином поведении начнет проглядываться установка на приоритет родной культуры, то у окружающих постепенно возникнет раздражение. Раз тебе так хорошо в твоей России, с какой стати ты торчишь у нас? Это вполне естественная реакция общества, которое считает себя более цивилизованным. Дикарь не должен упорствовать в своем дикарстве.
Нельзя не учитывать и еще одно обстоятельство. Патриотизм «русского медведя» и раньше-то вызывал у западного обывателя легкую оторопь, а в последние годы производит откровенно шокирующее впечатление, поскольку стараниями политиков и прессы оказался жестко сцепленным с ортодоксальным мышлением, коммунизмом, а следовательно, и с тиранией и даже фашизмом (не надо забывать про клише «красно-коричневые»). Эта идея широко транслировалась в массы множеством западных книг и кинофильмов. Существует уже некий стереотип: в современной России идет ожесточеннейшая борьба страшных, ужасных, дремучих патриотических сил, готовых разнести весь мир в щепки во имя достижения мирового господства, и прогрессивной части общества, усвоившей новое мышление и готовой принять деятельное участие в строительстве «общего дома».
Вряд ли поднимет Федин рейтинг и его принадлежность к православной вере (нечасто, но иногда детей в семьях «новых русских» на это ориентируют). Представьте себе, что он будет соблюдать посты, отмечать религиозные праздники по православному календарю и т. п. Напомним, что само слово «православие» звучит на европейских языках как «ортодоксия». А где ортодокс, там и фундаменталист. Такая сцепка сегодня тоже принята. Ну а фундаменталист — это агрессор, и опять все кончается мировым господством... В общем, как ни кинь — всюду клин. Без национальных корней юному представителю элиты быть не полагается, а проявления живой национальной культуры пугают. Пугают, потому что она чужая, неведомая и, главное, пассионарно заряженная (правда, пока неизвестно, до какой степени). И в такой реакции Запада нет ничего странного или возмутительного. Кого может радовать появление активного конкурента, от которого к тому же неизвестно чего ожидать? Странно другое: то, что после стольких лет директивного патриотизма, когда он, казалось бы, стал мертвой, ороговевшей оболочкой, в глубине сохранилось подлинное патриотическое чувство. Но это тема отдельного разговора, а мы продолжаем о Феде.
Потерпев фиаско на почве национального самоутверждения, он мог бы отыграться, козырнув личным происхождением. Но, с точки зрения западных людей, Федин отец — это в высшей степени сомнительное основание для гордости. Кто такие наши сегодняшние банкиры и воротилы бизнеса? Во-первых, если выражаться высоким штилем, это представители криминальных структур, ну а попросту говоря — бандиты. (Не только в нашей, но и в западной печати уже не раз и не два сообщалось о том, сколько российских банков «отмывают» преступные деньги.) В некоторых странах Запада появилась, правда, экстравагантная мода на прапрадедушку-пирата, но насчет моды на папашку-пахана пока что не слыхать. Во-вторых (впрочем, мы на такой последовательности не настаиваем, желающие могут поменять местами первое и второе), «новые русские» — это, как правило, выходцы из партийно-комсомольско-чекистской номенклатуры. Можно было бы предположить, что к ним (а следовательно, и к их детям) на Западе относятся более благожелательно, ведь они не украшены наколками и золотыми цепями, умеют пользоваться туалетом и носовым платком и даже порой владеют иностранными языками. Но такое предположение чисто умозрительно. Мало того, что в весьма недалеком прошлом именно эти люди олицетворяли враждебный коммунистический режим, так они еще и предали свою вчерашнюю идеологию. А предателей во всех без исключениях культурах презирают. Это поистине общечеловеческий принцип. И единственная возможность избежать остракизма состоит в том, чтобы представить свое предательство как прозрение. Что наша циничная номенклатура и попыталась сделать в начале перестройки. Но сегодня, когда о сращивании бывших номенклатурщиков с уголовниками знают даже дети дошкольного возраста, разговоры о прозрении уместны разве что в среде шизофреников.
Так что хвастовство папой не прибавит Феде уважения в кругу одноклассников и учителей. Многие из тех, кто бывал за границей, обращали внимание на то, что европейцы явно стараются держаться подальше от наших нуворишей. И даже, как нам кажется, излишне муссируют тему русской мафии. (Чем мафия, естественно, недовольна и порой выплескивает свое негодование на страницах желтой прессы.) Аресты крупных мафиози вроде Япончика или громкие истории с убийствами — помните, например, богатого русского подростка, расстрелявшего во Франции все свое семейство? — тоже не добавляют популярности нашим новым «героям».
Разумеется, русских миллионеров всячески обхаживают как выгодных клиентов, но это бизнес, он жестко отграничен от личного отношения. А Феде-то как любому ребенку школьного возраста важно именно отношение. Дружба, признание — вот самые актуальные ценности в эти годы.
Положение детей высокопоставленных российских чиновников принципиально ничем не отличается от описанного, так как о повадках и выходках этих «бульдогов под ковром» на Западе пишут еще откровеннее, чем у нас.
Итак, наш Федя оказывается за границей как бы меж двух огней: там его не принимают за своего, а «повернуться к Европе задом» и опереться на традиционные культурные ценности он не может. И начинает ненавидеть и тех, и этих. Одних за то, что они его унизили, а других — свой народ и страну — за то, что они его на такое унижение обрекли.
И здесь уже начинается ответ на вопрос, какова будет роль повзрослевшего и вернувшегося из-за границы Феди в жизни российского общества. Ведь Федю с пеленок нацеливали на ключевые позиции — на то он и элита! Однако свою страну он не только не любит, но и не знает. Прежде всего потому, что был вдали от дома как раз в том возрасте, когда формируются стереотипы взаимоотношений человека с определенным социумом (выражаясь языком психологии, это сензитивный период для социализации), и потому, что русская жизнь сейчас очень динамична и выпадение из нее даже на год может вызвать дезориентацию.
В результате мы получим капитана, который терпеть не может свой корабль и команду — а следовательно, не заботится о них — и к тому же не знает ни устройства этого корабля, ни тонкостей навигации. И тогда — будет как в любимой народом песне «Поедем, красотка, кататься…». Помните ее невеселый финал?
«А утром качались на волнах лишь щепки того челнока...».
Из области зоопсихологии
В медицине существует понятие анамнеза. Попросту говоря, это история болезни. А точнее — предыстория, происхождение. Анамнез очень важен. Он и дополняет картину настоящего, и позволяет сделать прогноз на будущее.
Мы (да и не только мы) уже писали о том, что «новых русских» можно разделить на две основные группы — бывшую номенклатуру и, так сказать, противоправный элемент. Назовем их условно «чистыми» и «нечистыми». И посмотрим, какие перспективы у них самих и у их потомства. Ведь в последнее время все чаще заходит речь о борьбе этих двух групп за ключевые позиции в стране. Думаем, что при решении данного вопроса очень полезно учитывать, так сказать, социальный анамнез и неотделимые от него психологические характеристики.
Многое в судьбе взрослого человека кажется необъяснимым, если не заглянуть в его детство, когда поведение более непосредственно, а свойства натуры проявляются ярче. Какими же были в детстве наши «новые русские»? Наверное, читатель, оглянувшись с высоты прожитых лет на свои школьные годы, не будет отрицать, что уже тогда многое угадывалось и в его собственной судьбе, и в судьбе его одноклассников. Только глаз не был еще наметанным и не всегда мог это увидеть. Но про кого-то даже в шестом-седьмом классе вполне можно было предположить, что это будущий математик, или биолог, или прирожденный общественный деятель (в то время, читай, комсомольско-партийный функционер). А про кого-то довольно быстро становилось понятно, что он плохо кончит. Это не значит, что все предположения непременно сбывались, но они возникали не случайно, не на пустом месте.
А что такое «прирожденный функционер»? Какова его типология? Без каких свойств его невозможно себе представить? Прежде всего это, конечно, высокие притязания на фоне — увы! — довольно слабого интереса к школьным премудростям. Люди с выраженными познавательными интересами, как правило, посвящали себя серьезной научной или культурной деятельности, не претендуя на должности освобожденных секретарей и прочие. Кроме того, властность в таких натурах обязательно должна быть сцеплена с умением кланяться перед начальством; это является одним из важнейших качеств, способствующих продвижению функционера по карьерной лестнице. Но самое парадоксальное в другом. Гораздо более парадоксально желание царить и в то же время полная неспособность взять на себя ответственность в момент настоящего риска. Иными словами, это сочетание господской спеси с лакейской трусостью. Помните, у Галича? «Промолчи — попадешь в первачи». Отчаянные правдолюбцы тоже, конечно, порой выходят в «первачи», но надолго в этой роли не задерживаются.
Теперь попробуем столь же кратко описать характер «уголовного элемента». Рискуя вступить в противоречие с благородной советской педагогикой, которая провозглашала, что никаких дурных наклонностей не существует, а все зависит от среды и воспитания, мы считаем, что криминальный характер бывает врожденным. К сожалению, в своей работе с детьми мы не раз встречали случаи, когда асоциальные выходки ребенка, как ни старайся, нельзя было списать на недостатки воспитания или психическую болезнь.
Что характерно для таких детей? Высокие притязания? Да. Средние способности? Да. А часто и ниже средних. Отсюда обширные низменные потребности и слабые «тормоза». Желание властвовать, безусловно, тоже присутствует: юные хулиганы обожают терроризировать класс, двор, улицу. А вот с умением прогибаться дело обстоит похуже. Гонор здесь перевешивает. И риск не пугает, а, наоборот, разжигает азарт.
Оказывается, в диаметрально противоположных на первый взгляд типажах — одни воплощение официоза, а другие — андеграунда — много общего! И если мы, как в операции с дробями, произведем сокращение в числителе (характер функционера) и в знаменателе (характер уголовника), то произойдет нечто удивительное. Почти все сократится, а в знаменателе останется самая малость — любовь к риску. Но эта малость очень многое определяет. Во всяком случае сейчас.
В более стабильные эпохи для того, чтобы пробиться к вершинам власти, на первый план обычно выходят другие качества: «гибкость» спины, умение согласовывать разнонаправленные интересы, тонкое искусство аппаратных церемоний. Но в такие времена, когда в обществе наблюдаются поистине тектонические сдвиги, пословица «Кто смел, тот и съел» работает, как никогда. Кто, спрашивается, в предлагаемых обстоятельствах одержит победу — «чистые» или «нечистые»? Ответ, казалось бы, очевиден, но общество упорно тешит себя мифами.
Дескать, какой разговор? Не может быть двух мнений! Конечно же, «цивилизованные капиталисты» гораздо перспективнее тупой, неразвитой и, в сущности, трусливой мафии. Причем по поводу трусости проявляется редкостное единодушие: они и, как крысы, прячутся по темным углам и обливаются холодным потом, когда их приходят брать, и «колются» на первом же допросе, выдавая всех своих дружков. А какой был самый убойный аргумент в пользу того, что чеченские боевики не бандиты, а герои сопротивления? То, что они проявляли бесстрашие и готовы были рисковать жизнью. Некоторые добавляли еще, что бандиты не способны на длительную борьбу. А кто-то — что они не стали бы сражаться за идею свободных выборов. Так и хочется воскликнуть словами классика: «Дурят нашего брата!». А то борьба колумбийского правительства с мафией не тянется Бог знает сколько лет, теперь уже и при участии американцев! Что же касается свободных выборов, то отчего не взять на вооружение лозунг, который поможет заполучить безраздельную власть и прямо связанные с ней каналы обогащения?
Любителям поговорить о трусости мафии мы советуем не мудрствовать, а опять-таки вспомнить школу. И записных хулиганов. Не примазавшихся к ним «шестерок», а лидеров, из которых потом часто вырастали настоящие бандиты. И если это сделать честно, то придется в клише «трусливые уголовники» сильно усомниться. Трусы не лезут в драку, а мальчишку-хулигана хлебом не корми — дай подраться. И с ним не могут справиться не только другие мальчики, но и взрослые. Родители жалуются на полную неуправляемость своих чад и бегут за подмогой в школу, которая тоже обычно оказывается бессильна...
Когда об этом задумываешься, становится понятно, что миф о трусости хулиганов — это типичная «ложь во спасение», необходимый элемент общественной психотерапии. Обычному человеку, чтобы не чувствовать себя «тварью дрожащей», жизненно важно верить в трусость, притаившуюся на дне хулиганской души. Это ему внушается с самого детства родственниками, воспитателями, образами литературы и кино. Вот и мы, работая с детьми-невротиками, говорим им, что хулиганы всегда пасуют, получая отпор. Но родителей призываем всячески ограждать детей от общения с настоящим хулиганьем, поскольку бой этот заведомо неравный. Честно говоря, и взрослый человек, хоть и тешит себя иллюзиями о трусости бандитов, а все же старается по возможности с ними не сталкиваться.
Вплоть до XX века дело обстояло иначе. Добро было с кулаками. В дворянах, из которых потом и получались крупные государственные функционеры, с детства культивировалась храбрость. Вся система воспитания не только давала право, но и обязывала ответить агрессией на агрессию. Детей учили ловко фехтовать, метко стрелять. Немного повзрослев, дворянские мальчики рвались на войну (благо, русская история часто предоставляла им такую возможность). И цена жизни была совершенно другой. Человек, дороживший своей репутацией в обществе, и помыслить не смел о том, чтобы объявить жизнь высшим приоритетом. Были ценности поважнее жизни: «вера, царь и Отечество», воинская слава, честь близких, собственная честь.
Потом постепенно государство сделало защиту личной чести граждан своей прерогативой, и граждане на это согласились. «Нечистые» же продолжали действовать по своим волчьим законам. При советской власти эта тенденция получила дальнейшее развитие. Особенно когда после Великой Отечественной войны у людей изъяли оружие, и адекватный ответ гражданина на бандитскую агрессию мог быть приравнен к преступлению (если, скажем, человек, обороняясь от бандита в собственном доме, шарахнул его табуреткой по голове и случайно убил).
Таким образом «добро» и «кулаки» были разведены. Для функционеров это вылилось в то, что изначально присущая им трусоватость уже не гасилась воспитанием, а, наоборот, обретая законные основания, фактически переводилась в ранг достоинства. То есть шел прямо-таки генетический отбор по этому признаку. И царские вельможи, «псы государевы» (тоже раболепствующие перед вышестоящими, но всей дворянской этикой обязывавшиеся в нужный момент проявлять храбрость) мало-помалу выродились в комнатных болонок. Форсу много, а силенок хватает лишь на визгливый лай. Волки же (любопытно, что этот образ у многих народов сопряжен с разбоем, вот и нынешние российские уголовники называют себя волками) тем временем продолжали оттачивать зубы.
Но болонки могут спать спокойно, только обитая в надежно укрепленном доме. Иными словами, если крепкое государство эффективно их защищает.
Однако государство рушится. Рушится, несмотря на все заклинания, угрозы покончить с коррупцией и сепаратизмом, а также призывы в ударные сроки изобрести объединяющую национальную идею. Так что вместо крепкого дома у болонок теперь фанерные будки-кабинеты да картонные коробки-офисы. Одна утеха — евроремонт. Утеха, но не защита. Защита нынче фиктивная. Так, самовнушение... Дескать, уголовники между собой перегрызутся. Вон, они даже «из-за бугра» друг друга достают. А кто-то утешает себя тем, что «чистые» прекрасным образом сращиваются с «нечистыми». И даже высказывает смелую гипотезу, что, может быть, это и послужит залогом вожделенного национального согласия. Ну а те, кто, брезгливо кривясь, такое согласие отвергают, надеются на свое интеллектуальное превосходство. Мы, мол, умнее и образованнее. И в грядущий век высоких технологий кому как не нам... Короче, venceremos! Победа за нами!
О сладостные майские грезы! Как неуютна, как тревожна была бы жизнь без них! Ведь тогда пришлось бы признать, что «нечистые» гораздо сплоченнее «чистых». Конечно, у братвы бывают разборки, но согласитесь, к типажу функционера никакое слово с корнем «брат» в принципе не применимо. Разве что презрительно-саркастическое «шатия-братия». У них связи чисто ситуационные, поэтому выражения «правительственный клан», «президентский клан» и т. п. тоже не более чем красивые слова. Клан — это когда за своего стоят насмерть (в буквальном смысле слова). А тут даже телохранители в откровенном разговоре заявляют: «Я что, больной? Жизнью ради него рисковать? Да пошел он со своими деньгами!». А спросите чиновника, потерявшего кресло — сейчас, а не в страшные сталинские времена! — что было на следующий день после увольнения? И он вам обязательно расскажет про молчащий телефон. А можно ли представить себе сегодняшних бандитов, которые не в виде позорного исключения, а массово, как федералы чеченцам, продают оружие противнику (в данном случае «ментам»)?
— Да, но у бандитов сейчас столько разборок! Это же типичное взаимоистребление,— успокоит себя и нас невозмутимый читатель.
Вынуждены возразить: это не взаимоистребление, а типичный естественный отбор, в котором выживает сильнейший. И из таких сильнейших выводится элитная порода суперволков. То есть волки матереют, при этом совершенно не собираясь завязывать с волчьей жизнью и начинать новую, честную. Тем более что честная жизнь, которая и раньше-то людям уголовного склада не была особенно любезна, сейчас и вовсе лишена привлекательности. Что она им предлагает? Отказаться от бандитской вольницы и униженно вымаливать у болонок подачки? Стать «тварью дрожащей»? Да с какой-такой стати? Где это видано, чтобы волки подчинялись болонкам? Ничего подобного! Все будет наоборот. Они поднакопят еще немного сил и слопают болонок вместе с их разноцветными бантиками.
Можно это, конечно, называть сращиванием, но уж очень оно специфическое. А временный союз... это до поворота. Пока болонки не укажут путь к хозяйским (государственным) закромам. Что и происходит со стремительной скоростью на всех уровнях экономики и политики.
И последний расчет — расчет на интеллектуальное превосходство — тоже, господа хорошие, несостоятелен. Маленькие у болонок головки. И мозги маленькие, жалкие и трусливые. Басни про их могучий интеллект до смешного напоминают домыслы доперестроечной интеллигенции о том, что там (в КГБ) «тоже не дураки сидят». Где результаты их интеллектуальных бдений? Где безопасность? Или она свелась к тому, чтобы поставить охранника у дверей своего особняка? Так на это мощный интеллект не требуется.
Остается образованность. Серьезный вроде бы аргумент. Тут «чистые», конечно, опережают. Но дети-то, спрашивается, на что? Ведь дети мафии тоже обучаются нынче в элитарных заведениях и зубрят английский, и, может быть, даже более старательно, чем наследники бывшей номенклатуры. По крайней мере, мы уже не раз слышали от педагогов, работающих с «новыми русскими», что ребенок из мафиозной среды (а его принадлежность к таковой нетрудно опознать по множеству признаков) обычно приходит в школу с меньшим культурным багажом, но зато потом быстро набирает очки и вырывается вперед.
Почему? Во-первых, потому что они генетически более витальны (сочетание амбиций и храбрости явно продуктивнее, чем невротизирующее сочетание амбиций и трусости). Во-вторых, «крутые» и с собственными детьми обращаются круто. За двойки расправа бывает суровой. И в-третьих, как это ни удивительно, но люди, в свое время не осилившие школьную программу, испытывают тайный трепет перед образованностью. Сколько бы они ни хорохорились, изображая презрение к «мозглякам»-интеллигентам, это не избавляет их от застарелого комплекса второгодников. И потому образованные дети для них — символ реванша.
Вот и получается, что волки по всем статьям превосходят болонок. И результат борьбы предрешен. Но когда питаешь на сей счет иллюзии, создается впечатление, будто все происходящее есть лишь следствие роковой ошибки или чьей-то злой воли. И достаточно эту ошибку исправить (например, втолковать болонкам, что они должны объединиться и отстоять в борьбе с волками государственные интересы), как морок, преследующий нас столько лет, рассеется, и мы наконец выйдем на верную дорогу.
Но не может болонка стать государственником! Даже если очень захочет. «Это же собачка, hund («собака» — нем.), она не может сорок страниц на машинке»,— так отвечал у Ильфа и Петрова директор цирка сценаристу, который требовал, чтобы дрессированная собака выучила наизусть конспект «Капитала» Маркса. А она, хоть и была говорящей, но умела произносить всего три слова: «любовь», «елки-палки» и «фининспектор».
Хранители
Человеческая психика так хитро устроена, что умеет до последнего момента с помощью самых разных уловок отгораживаться от опасности. Конечно, не от всякой — иначе род людской давно бы прекратил свое существование, а от той, которая на глубинном, бессознательном уровне ощущается как непобедимая. Когда же эта опасность подступает так близко, что не заметить ее просто невозможно, психика совершает последний и стремительный трюк: она вдруг перестает воспринимать опасность как несомненное зло и даже начинает видеть в ней положительные стороны (из серии «все не так однозначно»). А потом и провозглашает это зло благом. Как из рукава фокусника, появляются веские аргументы, яркие образы, исторические аналогии. Каждое лыко в строку.
Все это мы можем сейчас наблюдать на примере отношения нашего общества к угрозе криминализации. Вот уже более десяти лет в массовом сознании живет убаюкивающая иллюзия, что как-нибудь пронесет, зачем драматизировать... Начиналось, вообще, с того, что никакой мафии у нас нет. Теперь, правда, и дошкольники не сомневаются в существовании мафии, но все равно нельзя сказать, что общество полностью отдает себе отчет в реальном положении дел.
А положение дел, как нам кажется, таково, что единственная на сегодняшний день устойчивая, разветвленная и, судя по всему, жизнеспособная система в России — это мафия. Причем мафия не в расширительном толковании слова: дескать, все они — правительство и вообще власть — сплошная мафия. А в самом что ни на есть буквальном смысле.
У «структурированных уголовников» имеется все, что необходимо для управления страной. Не только деньги и волчья хватка, способствующие в борьбе за власть. С развитием теневой экономики развивалась и теневая культура, которая, кстати, вышла на свет первой, пока «базис» еще томился в тени. Вышла — и одержала стремительную победу.
Из чего главным образом соткана сегодняшняя массовая культура? Какие сюжеты, образы, ориентиры в ней преобладают? И что противопоставила этому официальная власть? Мы думаем, что каждый живущий здесь человек ответит без подсказки.
Более того, власть еще с начала перестройки усиленно поощряла уголовную тематику в искусстве. Расчет понятен: это помогало расшатать старую систему приоритетов. Вообще, когда вспоминаешь недавнее прошлое, возникает впечатление, что лидеры перестройки были хорошо знакомы с психологической технологией NLР (нейролингвистическое программирование). Один из важнейших принципов этого метода заключается в том, что сначала утверждается нечто безусловное и легко проверяемое. А затем, когда пациент расслабляется, проникнувшись доверием к психотерапевту, тот осторожно вкрапливает в эти легко проверяемые утверждения другие — те, которые проверить нельзя. Постепенно удельный вес вторых становится больше, и пациента вводят (а порой, по выражению авторов метода, даже «вталкивают») в так называемое измененное состояние психики, в котором человеком легко манипулировать.
Если проследить за развитием криминальной темы в перестроечную и постперестроечную эпоху, то мы убедимся, что технология NLP применялась вполне грамотно. Сначала в массовое сознание было вброшено множество правдивых и страшных фактов о лагерях. Мало того, что эту информацию каждый легко мог проверить и, собственно говоря, какими-то ее фрагментами уже владел, ему еще и усиленно помогали ею овладеть. Факты были обильно документированы и проиллюстрированы. Потом пошли «вкрапления». Смысл их сводился к следующему: преступностью поражено все общество. Она тотальна. Если кто не ворует, то только потому, что ему нечего украсть. Карьера валютной проститутки — самая привлекательная для нынешних школьниц. Армейская «дедовщина» распространена повсеместно и т. д. и т. п.
Дальше — больше. От тотального — к тоталитарному: ничего удивительного, что «в этой стране» сплошная преступность. В тоталитарном государстве, где все стрижены под одну гребенку, иначе и быть не может. Чувствуете, как меняется пропорция проверяемых и непроверяемых утверждений? Но в том-то и дело, что на этом этапе люди уже не стремятся к такой проверке. Мало того, находясь в состоянии этакого интеллектуального транса, они болезненно реагируют на любую попытку поставить хоть что-то под сомнение.
Постепенно добрались до того, что для множества живущих здесь людей считалось незыблемым, а главное, неприкосновенным: до революции, до большевиков, до Ленина. Нравится это кому-то или не нравится, но именно тут находилась сфера сакрального. Задача была непростая, ибо революционная эпоха была как бы закапсулирована, отделена в массовом сознании от 30-х и последующих годов. Не случайно до перестройки никому и в голову не приходило называть вождей КПСС большевиками.
И был найден очень изящный ход: слово «большевик» стало применяться ко всем партийцам, в том числе и к современным номенклатурщикам. А поскольку номенклатурщики у очень многих людей симпатии не вызвали, то «сталинские соколы» и брежневские «геронтократы», пристегнувшись к образу большевиков, как бы заразили его своими свойствами, вызывавшими всеобщую антипатию. Название взяли — свойства отдали. Капсула была разгерметизирована.
Ну а затем был применен прием старый, как мир. Еще реформаторы древности, низвергая кумиров, знали, что очень эффективно объявить их не только бессильными шарлатанами, но и махровыми преступниками. В наш просвещенный век эта архаическая техника тоже сработала безотказно. Большевики были объявлены сначала преступниками, нарушавшими моральные нормы, после чего их, уже не церемонясь, приравняли к уголовникам, к уголовной банде.
Параллельно с этим множество людей, числившихся раньше в разряде преступников («теневики», фарцовщики, расхитители государственной собственности, власовцы, советские шпионы, сбежавшие за границу, люди, торговавшие государственными секретами, и прочие), были названы кто самым предприимчивым, кто — славным борцом за «белую» идею, кто — смельчаком, который, рискуя жизнью, вырвался из тоталитарного плена, чтобы прокричать на весь мир правду об ужасах советского ада. Причем в этом не было какой-то особой демонической злонамеренности. Простая логика жизни подсказывала подобные выводы. Раз большевики — преступники, то те, кого они карали, конечно же, лучшие люди. Зло, оно ведь борется с Добром!
Борцы с «уголовным большевистским режимом», вероятно, рассчитывали на то, что процесс как пошел по их воле, так в нужный момент и остановится. Ничего удивительного — это же были люди старой партийной закваски. Однако в «беспартийной реальности» сюжет повел себя самостийно. Во-первых, круг амнистируемых стал расширяться, ибо общественное сознание постепенно включало в него все новые и новые группы: проституток, которых романтически называли путанами, бандитов, вышибающих деньги из должников (кто-то из газетчиков даже окрестил их «санитарами рынка»), боевиков, а потом и террористов. Ну и, во-вторых, мафия не согласилась на роль мавра и не пожелала уйти, когда начальство решило, что она сделала свое дело. А силой ее уже не прогнать — власть сама выбросила в окошко метлу.
Эта история, помимо всего прочего, наглядно показала, что владение современной психотехнологией, которое многими воспринимается как некая магическая сила, неизбежно приводящая к успеху, на самом деле — типичный новый миф. Никакая технология не может заменить настоящего стратегического ума, которым наша номенклатура, увы, не отличается, так как отбор в эту категорию давно идет по другим признакам.
В чем состоял основной смысл перестроечного проекта? В том, чтобы демонтировать старый строй и установить новый, при этом не только оставшись у власти, но и расширив свои возможности. Иными словами, номенклатура, свято веря в лозунг «Для нас ничего невозможного нет», замыслила уникальный исторический эксперимент. Привыкнув к политическому шулерству в отношениях со своим народом, она надеялась одурить историю: воспользоваться силами мощной маргинальной группы, совершить революцию, а потом присвоить себе плоды этой революции, загнав помощников на прежнее место. (Ну да, уголовники же «трусливые крысы», которые — только стукни кулаком по столу — моментально забьются в подпол!)
Это все равно как феодалы решили бы произвести революцию руками народившейся буржуазии и народных масс, а потом захотели бы оставить в дураках не только народ (эта технология отработана веками), но и пассионарное в то время третье сословие. В нашей криминальной революции роль одураченных народных масс сыграла интеллигенция. Но настоящая движущая сила (а не рупор) революции a priori пассионарна, и ее так просто в сторону не отставить. Это теперешняя интеллигенция, вздохув, скажет, как в песне Галича, что «оказался наш отец не отцом, а сукою», но при этом не только не возьмет в руки автомат, а даже сочтет неприличным пошутить на эту тему. Мафии же мечтать об автомате нечего. Она давно вооружена. В некоторых весьма престижных заведениях уже можно встретить примерно такие корректные объявления: «Господа! Убедительная просьба сдать охранникам при входе личное оружие». Как вы понимаете, эта просьба обращена вовсе не к «акулам пера».
Случайно ли вместо задуманной буржуазно-демократической революции в России второй раз получается что-то совсем другое, большинством политиков непредвиденное? Думаем, нет. И даже уверены. Второй раз на протяжении одного столетия в России предпринимается попытка заменить базовые культурные ценности на другие, чужеродные. А они, как ни старайся, не приживаются. (Надеемся, в предыдущих главах мы достаточно убедительно показали, что они просто не могут прижиться здесь, на этой культурной почве.) В итоге, отказываясь от старых ценностей, правящая верхушка не в состоянии внедрить новые. Рано или поздно они обязательно бывают отторгнуты. Но люди не могут долго жить в ценностном вакууме, и непременно появляется сила, которая закачивает новый культурный воздух. Новый, но свой. Пускай смрадный, но зато не вызывающий аллергического удушья.
Если под этим углом зрения посмотреть на борьбу «чистых» и «нечистых», то опять же станет очевидным огромное преимущество вторых. Поначалу такое утверждение может показаться диким. Что за чушь?! Какая там культура у бандитов? Культура — это духовные ценности, а тут сплошная антидуховность, антикультура. Но если посмотреть повнимательней и без предубеждения, то окажется, что «анти» по отношению к нашей культуре — это модернизационные ценности западного образца. Бандитские же ценности, вкусы и законы отношений — это вовсе не «анти», а субкультура. Сниженная, конечно (поэтому и «суб»), но не иноприродная. Исследователи, изучавшие преступную среду — такие, например, как известный правозащитник В. Чалидзе (США) — отмечали, что воровской мир весьма консервативен в почитании своих организационных и этических принципов. Чалидзе даже проводит аналогию между воровской организацией и работной артелью — русским социальным институтом. И указывает характерные признаки:
— «молчаливый» договор участников;
— ограничение свободы выхода из артели;
— принцип круговой поруки;
— равноправие основных членов при приоритете лидера («атамана», «старшого»);
— внутренняя система наказаний;
— высокая степень информационной замкнутости;
— особый внутренний язык;
— взаимодействие с другими артелями в разделе территории промысла.
И многие внешние черты, и глубинные, архетипические, свойства роднят сниженную, низкую культуру с высокой. Странного тут ровным счетом ничего нет. Уголовники по большей части происходят из низов общества, и уже одно это приближает их к почве. А слабые психические тормоза и необремененность высокой культурой — плохой заслон на пути коллективного бессознательного (термин К. Г. Юнга), в котором эти архетипические свойства проявляются в своем первозданном, даже первобытном, виде.
Взять хотя бы равноправие основных членов при приоритете лидера («атамана», «старшого»). Чем не модель идеального русского царства? Здесь и «вольница», и равенство, и сильная отцовская длань — суровая, но справедливая.
А молчаливый договор участников? Разве он не отражает архетипическую неприязнь нашего народа к приоритету формального права и, наоборот, исконную тягу к решению спорных вопросов «по правде», «по справедливости»? (Не случайно в русском языке — а в языке вообще ничего случайного не бывает — «правосудие» и «справедливость» — это разные, хотя и однокоренные слова; в английском же, французском, испанском и других языках понятия «правосудие» и «справедливость» обозначаются одним словом, то есть нет никакой другой справедливости, кроме правовой, юридической.) Насколько мы понимаем, молчаливый договор участников основывается не на писаных законах, а на традициях (в данном случае уголовных). В юриспруденции это носит название «естественное право». И симптоматично, что о перспективности построения в России общества, основанного на принципах естественного права, заговорили сейчас и некоторые наши политологи. Можете не сомневаться, «молчаливый договор» приживется здесь гораздо лучше, чем «Декларация прав человека». Так уж устроена наша культура, и с этим надо смириться независимо от личного вкуса. Иначе невозможно будет выйти за пределы порочного круга.
Теперь о круговой поруке. В высокой культуре это называется «взаимопомощь» и «взаимовыручка», но носители высокой культуры сегодня от нее публично отреклись, объяснив обществу, что коллективизм тождествен стадности, а нормальные люди думают каждый о себе и не вмешиваются в чужие дела. А кто вмешивается, тот посягает на свободу воли (то есть равнодушие получило еще и концептуальную поддержку). Что ж, свобода воли, действительно, один из важнейших принципов христианской этики. Но любые поступки имеют последствия, и, выбирая линию поведения, свободный человек должен свободно же брать на себя и бремя ответственности. Ибо оно все равно ляжет на его плечи, но если не быть к этому готовым, то от неожиданности можно сломать хребет.
Так что, когда на верхних этажах культуры отказывались от идеи коллективизма, следовало предвидеть, что на нижних этажах такого отказа может и не произойти. И скорее всего не произойдет. Как говорят врачи, «по жизненным показаниям», ведь для уголовников принципы коллективизма — залог выживания. И люди, в чьем архетипе записана тяга к общинной жизни, будут спускаться вниз, в подвал. И закрывать глаза на то, что там пахнет плесенью и крысами, а по углам висит паутина. В ситуации, когда на верхних этажах вообще нельзя дышать, все это становится второстепенным.
Тяга к общинности в нашей культуре естественно связана с потребностью, а для многих и с жаждой «Общего Дела». И опять-таки — «наверху» старое «Общее Дело» заклеймили позором, а нового не подобрали. «Внизу» же и с этим все о’кей. И не только потому, что бандиты вместе «идут на дело». Исследователь криминальной жизни В. Овчинский пишет: «В XIX столетие преступный мир России вступил окрепшим, сплоченным, имеющим силы противопоставить себя общественному порядку и закону». Но это носило приспособительный характер — урвать и затаиться. Сейчас же «Общее Дело» мафии приобрело явно наступательный характер. Она уже не приспосабливается, а пытается подмять под себя государство, сделать его собой. Задача поистине грандиозная. Аж дух захватывает: и как это возможно? Но именно такие «большие проекты» — не вялые маниловские мечты, а несущие в себе мощный энергетический заряд и потому реализуемые — и обладают для представителей русской культуры ни с чем не сравнимой притягательностью.
В этой связи довольно неожиданно высвечивается и пресловутая борьба за выживание. ПризнАемся друг другу честно: ведь это ужасно унизительно — выживать неизвестно зачем. Есть для того, чтобы жить, и жить для того, чтобы есть. По крайней мере, в нашей культуре это все выглядит как-то убого, жалко, мизерабельно. Если только не освящено уже упомянутым «Общим Делом». К примеру, жители блокадного Ленинграда тоже во что бы то ни стало стремились выжить. Но это было героически окрашено (чувство, несовместимое с мизерабельностью). Выжить наперекор врагу.
И посмотрите, до чего интересно получилось! «Верхние этажи» с удовольствием подхватили чуждую нам идею биологического выживания как самоцели и стали спускать это в массы самыми разными способами: от радиопередачи «Школа выживания» до создания Международного фонда выживания. Но люди от этого только невротизировались. Выживать они в результате стали хуже, а следовательно, идея выживания пускай на бессознательном уровне, но была отторгнута. В «подвалах» же эта идея бытовала всегда, но в ней и всегда содержалась сверхценная составляющая: выжить, чтобы «показать этим гадам». А уж сейчас, на общем жалком фоне, установка на выживание «вопреки» обретает особую весомость, что, опять-таки, весьма привлекательно, особенно для молодых, чьей природе жалкость претит.
И уж совсем парадоксальная история с отношением к деньгам. Кажется, что деньги и, соответственно, роскошь — это то, что для преступников самоценно. То, ради чего они грабят, убивают, рискуют жизнью и свободой. Но и это очень поверхностный взгляд на вещи. Да, безусловно, уголовники в силу своей грубой, чувственной природы любят «жирную жизнь». Но это один уровень. А есть и другой, более высокий. В уголовном мире существует «общак» — своеобразная касса взаимопомощи, которую используют для подкупа судебных властей, оплаты адвокатских услуг, вызволения особо ценных кадров. В последнее время, как отмечают специалисты, «общак» используется для претворения в жизнь различных «программ», направленных на благо мафии (сейчас ведь прямо какое-то помешательство на «проектах» и «программах», так почему же те, у кого есть «Общее Дело», будут оставаться в стороне?). «Общак» все чаще вкладывается в коммерческие структуры для получения прибылей и спасения «общей кассы» от инфляции. А кража «общака» — одно из наитягчайших преступлений, карающееся смертью.
Показательны и установки самой элитной группы уголовников — «воров в законе». Вот уж поистине «аристократы духа»! Хотя они бывают баснословно богаты, богатство для них второстепенно. Достаточно раз увидеть подобного «авторитета» — а их уже спокойно показывают по телевидению,— чтобы понять, чем он на самом деле гордится, что ему по-настоящему дорого. А дорог ему не кирпичный трехэтажный дом и даже не вилла с видом на Манхэттен. Это символ величия для болонок-функционеров. Нет, матерому волку дороги его отвага, стойкость, непобедимость. Именно это стоит за лозунгом «Зона — дом родной». Чем больше сидел — тем больше почета (если, конечно, не измельчал, а остался настоящим волком). Вы можете себе представить Аль Капоне, который двадцать пять лет провел в тюрьме и очень этим гордится? Нет ведь, правда? Потому что это другой архетип. Если можно так выразиться, «телесно ориентированный».
Конечно, мы недаром поставили кавычки. Но, нисколько не обольщаясь насчет волчьей стаи и ее «духовности», мы все же вынуждены констатировать, что на наших глазах происходит удивительное явление: в русской культуре сейчас срабатывает система двойной защиты. Причем высокая культура в данный момент защищается в основном пассивно. Нас защищают наш язык, православная вера, классическая литература, живопись, музыка, философия — в общем, то, что существовало или было создано до нас. А мы сами, пускай не все, но многие, отказались от того, что составляло суть этой высокой культуры, соскользнули с ее крутой вертикали. Но неожиданно и, разумеется, неосознанно эту защитную роль начинает играть уголовная субкультура. Волки, они ничего не знают о трансплантации, но, видно, нутром чуют, что с чужими потрохами долго не протянешь. И чем больше на «верхних этажах» разглагольствуют про утопичность равенства, про справедливость несправедливости и про обреченность любой борьбы, тем громче и уверенней звучат на «нижнем этаже» песни про «братков».
А, собственно говоря, что мы все твердим «на нижних» да «на нижних»?! Когда жизнь превращается в трагический балаган, верх и низ постепенно меняются местами.
И призывы к власти «поставить заслон на пути мутных потоков криминальной культуры» теперь просто смешны. Начав с поощрения уголовников, она (власть) перешла к их обслуживанию. И перечень услуг все растет, и назад уже не повернуть. И, видя, что они со своими комнатными повадками уже не вписываются в «крутую» реальность, болонки торопливо натягивают волчью шкуру. Вдруг за волков сойдут? Но в панической суете забывают о том, что у волков безошибочный нюх.
Разлука будет без печали
Наверное, самый модный «лейбл» в нашей стране — государственник. Даже те, кто совсем недавно если и произносили это слово, то разве что с оттенком иронии, теперь торопятся пополнить ряды «настоящих, крепких государственников». (Ну а чтоб не так резало слух, именуют себя «статистами».)
Мы не станем сейчас разбирать, как трактует тот или другой политик столь почетное звание. Нам интереснее подумать, какие ассоциации — и явные, и до поры скрытые — рождает оно у множества обычных людей. Безусловно ли «государственник» звучит для них со знаком плюс? Каковы вообще перспективы дальнейших взаимоотношений старой, как Филемон и Бавкида, пары «государство — народ»?
Брачный союз, о котором пойдет речь, был заключен в незапамятные времена. И нельзя сказать, что по страстной любви. Впрочем, тогда и человеческие браки, как правило, основывались не на романтическом влечении. «Стерпится — слюбится» — вот традиционная русская установка. Несмотря на свой средний род, государство играло роль мужа, а народу — опять-таки вопреки грамматике — досталась роль жены. Многие мыслители обращали внимание на «женственность» России (читай, ее народа). Мы же хотим, развивая свою нехитрую метафору, подчеркнуть, что это была не роль жены вообще, а жены крестьянской, которая везла на себе тяжеленный воз обязанностей, содержалась мужем в черном теле, терпела побои и притеснения, не смела перечить и даже помыслить не могла о разводе.
А что же грозный муж? Только эксплуатировал и карал? Да нет. Он плохо ли, хорошо ли, но все же возглавлял семью: защищал от врагов (постоянное укрепление обороноспособности страны), расширял жилплощадь (покорение новых земель). Потом, при социализме, начал бесплатно лечить, давал возможность отдохнуть от работы в старости, опекал и учил детей (короче, у людей появилось множество социальных гарантий). И что, может быть, самое важное, у жены была уверенность в том, что ее муж — и соответственно, она сама — непобедим. Брак с ним давал ей высокий социальный статус. В семье могло происходить всякое, но зато было ощущение прочного, нерушимого дома. И это многое окупало.
Но вот пришла перестройка. И тут вдруг муж сам заговорил о том, что домострою конец. Была раба, а теперь будешь свободная, мыслящая женщина! И отношения у нас будут равные и уважительные. Я тебе все возможности предоставлю для самореализации, только захоти. И благосостояние нашей семьи от этого только приумножится.
Жена сначала не поверила. А потом глядит — вроде правда. Раньше слова поперек не скажешь, а теперь ничего. Даже наоборот, призывает к какой-то гласности. И под замком не держит. Да и вообще повеселее стало, поразнообразней. И в душе благодарной жены шевельнулось что-то похожее на любовь. Ей даже показалось, что она только сейчас и жить начинает по-людски. Не ведала наивная душа, что не к добру все это и скоро ей суждено стать соломенной вдовой. Вольности прибывало, но и муж ее опекал все хуже и хуже, а жизнь между тем становилась все жестче и жестче... И чем тяжелее приходилось жене, тем меньше замечал ее тяготы муж.
И в какой-то момент ситуация представилась такой: муж где-то на стороне пьет, гуляет — в общем, живет исключительно для себя. А когда ему что-то нужно, приходит и требует денег. Так что жене от него не только никакой радости, но и никакого проку. И жена, за годы перестройки, с одной стороны, осмелевшая, а с другой, привыкшая к одинокой жизни, постепенно дозревает до вполне закономерного вопроса: а зачем ей эта головная боль? Может, развестись наконец и жить уже совершенно самостоятельно?
Дело ведь не только в том, что государство не однажды нарушало баланс прав и обязанностей по отношению к своим гражданам. Не менее важно и то, что подспудное отторжение человека от государства началось не вчера и даже не десять лет назад. Процесс был запущен на рубеже XIX–XX веков, когда началось опасное брожение в умах и все больше людей приходило к выводу, что можно прекрасно прожить и без царя. В русской истории это случилось впервые. Кто-то возразит: «А как же “смутное время”?». Но тогда речь шла не об отмене царя вообще, а о поисках «правильного монарха».
Итак, сначала рухнула идея царя. И как помазанника Божия, и — чуть позже — как непогрешимо мудрого, идеального вождя (Ленин, Сталин). Ну а затем, когда с идеей государя было покончено, настал черед идеи государственности. И опять-таки все это получилось не сразу, не вдруг, а накапливалось годами, десятилетиями. Так в крови накапливаются тяжелые металлы.
Думаете, когда в школе и в институте заучивали, что государство — аппарат насилия и что при коммунизме оно отомрет, это было пустым звуком? Слово, оно не только отражает реальность. Оно ее творит. Творит постепенно, исподволь. (И не обязательно «как по писаному». В данном случае коммунизма не получилось, а государство отмирает.) Очень часто это мина замедленного действия.
Правда, не скажешь, что сила слова сыграла тут доминирующую роль. Государство сделало все, чтобы опостылеть своим гражданам. Особенно, конечно, в последние десятилетия, когда, с одной стороны, люди и видят сами, и слышат от журналистов, что государство их грабит, унижает, убивает, а с другой — они уже не боятся в открытую на это реагировать. Власти, должно быть, кажется, что это ловкая, давно апробированная технология — выпуск лишнего пара. Ну, как в Японии, про которую с восторгом рассказывала наша выездная интеллигенция: недоволен начальством — заходишь в специальную комнату, где стоит чучело твоего шефа, и лупишь по нему резиновой дубинкой. А потом как миленький возвращаешься на свое рабочее место и служишь начальнику дальше.
Мы много раз в этой книге говорили об особенностях нашей культуры. Вот еще одна: русская культура очень серьезная и неформальная. В ней неизмеримо большее внимание уделяется сути. Недаром здесь не принято особо фиксироваться на бытовой культуре. Это не значит, что ее нет. Она есть и вполне сопоставима с бытовой культурой западных стран. Но человек, зафиксированный на этой стороне жизни, выглядит в России странно. Его называют занудой, педантом, а порой и жлобом (это действительно нередко бывает сцеплено с жадностью), то есть он выпадает из традиционного культурного пространства. Да и у самих таких людей возникает стойкое ощущение, что все, кроме них, живут неправильно, ненормально, «как в хлеву».
И человеческое общение у нас тоже неформальное, даже если встреча мимолетна — на остановке, в электричке, в поликлинике. И дело не только в том, что русские гораздо чаще, чем жители западных стран, заговаривают с незнакомцами и открывают им душу. Главное, что у нас человека в первую очередь оценивают по тому, какой он есть, а не по формальным критериям (должность, степень, положение, достаток и прочее). Светское общение здесь синоним скучного занятия, пустой траты времени, а склонность контактировать формально очень часто является аргументом врача-психиатра в пользу диагноза «шизофрения». Так и пишут в медицинском заключении: «Формально контактен». А на Западе, спросят нас, что — другие критерии диагностики? Мягко говоря, не совсем такие: если формальная контактность не сопровождается ярко выраженным неадекватным поведением, абсурдными действиями, агрессией, бредом и т. п., то в сегодняшней западной реальности такого человека вряд ли сочтут шизофреником.
Русский человек воспринимает мир иначе, нежели западный, именно поэтому постмодернизм в России так и не стал — да и, думаем, не станет — достоянием масс. Дело не в том, что эти массы темные и тупые. Просто они не поклоняются игровой стихии, а напротив, считают искусство, в котором форма съела содержание, бессмысленным.
Можно было бы привести еще множество примеров из самых разных сфер жизни, но, пожалуй, для иллюстрации достаточно. Так что уловки по «выпусканию пара» не дадут в наших культурных условиях долговременного эффекта. Да уже не дают!
Разумеется, нельзя сказать, что в других, более благоприятных условиях человек и государство всегда сливаются воедино. Зазор непременно должен существовать, чтобы не было крена в сторону тоталитаризма. Но сейчас предел допустимого, как нам кажется, уже перейден. Причем перейден давно. Критической точкой был, конечно, распад Советского Союза. Спокойная реакция большинства советских людей потрясла тогда весь мир. Иностранцы недоумевали. Наши патриоты говорили о том, что массы оболванены, зомбированы. Демократы ликовали, уверенные в том, что теперь начнется новая жизнь. И она действительно началась, только не в смысле построения здорового гражданского общества, а в том смысле, что теперь рядом с государственными институтами, как грибы, вырастают «параллельные структуры». И первые все меньше могут конкурировать со вторыми. Поэтому и граждане все чаще добровольно обращаются ко вторым, уклоняясь от общения с первыми.
Чем прежде всего озабочен тот, кто затевает в наших условиях собственное дело? Поиском «крыши». (Даже само слово взято из мафиозного жаргона.) А возьмите ситуацию с налогами. Государство старается выжать из людей все, что только может, а мафии, которая в данном случае выступает в виде фирмы по обналичиванию денег, отстегни 5–10 процентов — и живи спокойно. А кого просят «выколотить» деньги из обнаглевшего должника? Судебного исполнителя? А сколько людей уже и не заявляют в милицию об ограблении квартиры, о поджоге дачи или об избиении на улице? Не заявляют, ибо твердо уверены, что это бессмысленно. Но если у них будет возможность «выйти на авторитета», многие этой возможностью воспользуются и даже не вздрогнут при мысли о том, что защиту от преступления они ищут у... преступников.
А чего стоит складывающийся на наших глазах новый идеальный образ власти! Изверившись в том, что ставленники государства могут быть честными, люди все чаще говорят: «А ну их! Пусть воруют. Лишь бы нам жить давали». Следовательно, криминальный характер власти уже не вызывает возражений,— главное, чтобы она оставила людей в покое. Значит, отчуждение уже фатально. И думаем, что не будет ошибкой назвать нынешнее время новым этапом, и даже новой эпохой, в истории российской государственности — эпохи легитимизации бандитских режимов. В Чечне — сколько ни называй наркодельцов и бандитов повстанцами — это уже свершилось.
Наверное, у многих сразу возникли в воображении апокалиптические картины: стрельба, кровь, люди с автоматами хозяйничают в городе. В общем, жизнь кончена. Но это совсем не факт! Реальность свидетельствует, скорее, об обратном. Известно, что в Сицилии, на родине мафии, женщина может совершенно безбоязненно возвращаться ночью одна, украшенная дорогими бриллиантами. Да и в Москве стало на улицах гораздо спокойней, когда мафиозные группировки поделили между собой город.
И вообще, вы, может, уже заметили, что на фоне всеобщего развала и распада в тех зонах, которые входят в сферу интересов преступного мира, идет быстрое и вполне успешное созидание? Причем отстраиваются не только сугубо криминальные участки (наркобизнес, торговля оружием, контрабанда и прочее). Вовсе нет! Отстраивается вся жизнь, и именно так, как ее представляют себе уголовники. Жратвы навалом, тряпок тоже сколько угодно. Да что ни возьми! Турбюро, казино, рестораны, глянцевые журналы с обилием ярких иллюстраций и минимумом текста, триллеры, детективы и женские романы... А телевидение с его играми, лотереями, бесконечными телесериалами и боевиками, музыкальными клипами, рок-концертами и анекдотами!.. Да, у культурных людей засилие подобного хлама вызывает оторопь. Но при чем тут они? Эта жизнь не для них. А уголовникам она очень даже любезна. «Как вы не понимаете? — услышали мы однажды от подруги “авторитета”.— Мы кайфуем от этой жизни!».
Но «волки» не получают особого наслаждения от того, что их «кайф» противопоставлен ничтожеству всех остальных. В этом смысле они тоже не похожи на «болонок», для которых именно контраст всегда был главным удовольствием. Вспомните пресловутые распределители, заказы, магазины «Березка», заграничные поездки для избранных. Скажем больше: мы уверены, что нынешнее запредельное расслоение в обществе — это характерный почерк номенклатуры. Им ничто не всласть, если то же самое доступно остальным. И немудрено — чем они еще могут выделиться? Талантов больших нет, смелости и любви к риску, которые придают жизни особую остроту, тоже. Даже по внешности — и то они, как правило, малоразличимы. Одно слово — серость. Но серость властолюбивая. И поскольку сейчас они уже не могут запретить всем остальным пользоваться теми же благами, какими пользуются они, то акцент, вполне естественно, сместился на стоимость этих благ.
А в поведении «волков» совсем другая подоплека. Спросим себя: как может самоутвердиться маргинал? Конечно, есть много способов, но главный — это переместиться в центр. А для человека с выраженной претензией на лидерство важно не только переместиться в центр, но и стать жизнеобразующим началом. Как, находясь в положении «волка», этого достичь? Путь, в сущности, только один: надо делиться. И чем больше людей будет тобой облагодетельствовано, тем больше у тебя шансов на главенство, тем прочнее твои позиции.
Так что приход к власти «паханов» сулит еще и более справедливое устройство общества!
И дороги — извечный символ российской бесхозяйственности — они построят, и жилищную проблему решат. Можете не сомневаться! И даже если в дальнейшем для решения их стратегических задач понадобится наука, они и на нее найдут средства.
В общем, «все будет путем»...
И очень скоро, когда неотвратимость прихода мафии к власти станет очевидной и слепому, со всех сторон посыпятся аргументы, подобные тем, которые мы только что привели. А сколько будет свежих, неожиданных и, главное, безупречных в своей логике!
Предвосхищая все это, мы отсылаем наших читателей к произведению русского философа В. Соловьева «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории». Оно было написано столетие назад и теперь воспринимается как гениальное пророчество.
В главе «Краткая повесть об Антихристе» автор рассказывает о грядущем сверхчеловеке, который получил свое могущество, отрекшись от Христа. С приходом этого сверхчеловека в мире воцарилось настоящее благоденствие. Все было прекрасно: народы Земли получили «вечный вселенский мир», «объединились в общий дом». Сверхчеловек осуществил «простую и всеобъемлющую социальную реформу... по желанию бедных и без ощутительной обиды для богатых». Он поощрял «общества покровительства животных», дал людям не только хлеб, но и зрелища, яркие, красочные, захватывающие — те, что сегодня называются «шоу». В этом жизнеустройстве нашлось место и для Церкви. Новый император мира стремился объединить христиан самого разного толка (В. Соловьев предвидел даже развитие экуменического движения!). И почти все были довольны. Лишь крохотная горстка людей задавалась тревожным вопросом: во имя чего все это? Что вдохновляет властителя на благие начинания? Как выяснилось, тревога была не напрасной. Несмотря на всеобщее благоденствие, власть, построенная на неправедной основе, рухнула. И никакие ухищрения великих придворных магов не помогли ее сохранить.
Государство — это я
Кого-то, вероятно, удивит, что мы так далеко и надолго ушли от детской темы. Но на самом деле ничего удивительного здесь нет. Мы хотели показать тот культурный и социальный фон, на котором эта тема будет развиваться. Фон, прямо скажем, неблагоприятный. Да что неблагоприятный! Катастрофический! И по своей катастрофичности в русской истории беспрецедентный. Ведь сокрушенное государство не только реально не заменено новым, нет даже фантомного образа этого нового. Как сказал поэт, «образа мира, в слове явленном».
Зато образы власти ярки и персонажны настолько, что могут конкурировать со злодеями из волшебных сказок — Кощеями, лешими, водяными. И главное определяющее свойство представителей власти тоже восходит к мифологии. Это злокозненность. Что сейчас слышит ребенок уже в раннем детстве? Что они обманывают, надувают, грабят, издеваются, не дают жить, отключают электричество, не платят зарплату, закупают за границей вредную еду, бомбят мирные города, убивают ни в чем неповинных жителей, плодят бомжей и беспризорников, обрекают всех, в том числе и детей, на голодную смерть и вообще хотят всех уморить (последний мотив становится все более популярен). То есть в самом что ни на есть буквальном смысле слова это враги народа.
Причем если взрослые принимают сегодняшнюю ситуацию как нарушение нормы, поскольку в их детстве и власть была несколько другой, и достижения гласности были не столь велики, то наши дети иного и не знают. Враждебная человеку власть для них — импринтинг, первообраз, прочно впечатавшийся в память. В памяти этих детей уже нет картинок типа «воин с ребенком на руках», «глава государства на трибуне Мавзолея, обнимающий девочку с букетом», «дядя Степа-милиционер». Нет государства как института отцовства, нет Отечества.
А какие чувства порождает безотцовщина? Чувство отверженности, неполноценности, беззащитности. Отсюда множественные страхи и — как обратная сторона медали — агрессия. Недаром психологи и психиатры сейчас приходят в ужас от бурного роста детских фобий и подростковой агрессивности.
Крах государственного патернализма в любом случае создает избыточные психические нагрузки для отдельной личности. У нас же это особенно опасно. Не будем забывать о глубинной тяге русских к общинности, с одной стороны, и о глубинном анархизме — с другой. Когда государство стабильно, общинность играет доминирующую роль, а анархизм существует в скрытом, подавленном виде. Как принято выражаться в генетике, это рецессивный ген. Общинность же — главенствующий, доминантный. Ну а в периоды смуты анархизм, наоборот, может занять — и занимает! — основную позицию. Но самое опасное, когда «вольница» становится коллективной. То есть ослабленное нестабильностью общинное чувство заражается вирусом анархии. Вот она, гремучая смесь, приводящая одних в банды, а других на баррикады! Нынешние дети напитываются этой гремучей смесью с самого рождения.
А если учесть, что современная масс-культура несет в себе мощнейший заряд агрессии, то получается, что подпитка происходит и изнутри, и извне. Посмотрите мультфильмы, которые показывают сегодня малышам: и сюжет, и изобразительная манера, и интонации героев, и даже частота кадров — все провоцирует агрессию. Ее буквально закачивают в ребенка. К совершеннолетию современные дети успевают увидеть по телевизору десятки тысяч (!) убийств. Причем красочных, с выдумкой — на любой вкус.
А компьютерные игры? Цель в них — убийство, основное действие — убийство. Чего стоят одни только восклицания дошкольника, сидящего за пультом домашнего компьютера! У матерей, воспитывавшихся не на таких кровожадных забавах, стынет сердце, когда из соседней комнаты доносится тоненький голосок: «Меня убили! Я убит!».
Вообще, компьютерные игры заслуживают и серьезного исследования, и серьезного разговора. Здесь мы скажем лишь о том, что они подспудно формируют у современных детей психологию сверхчеловека. А что еще может получиться из ребенка, который уничтожает отдельных людей или даже целые города и государства простым нажатием кнопок? Он сидит перед экраном, а там — много маленьких движущихся человечков, изображенных вполне реалистично. Этакие ожившие лилипуты, и ребенок-Гулливер ими владеет. Он может в любое мгновение эту жизнь остановить, прервать.
Нам возразят: дескать, раньше дети играли в войну, в солдатики. Разве там не убивали? Даже в шахматах и шашках, где «едят» фигуры противника, тоже совершается условное убийство.
Все это так, но в компьютерных играх граница условности недопустимо сдвинута в сторону реализма. И сдвигается все больше и больше. Недаром сейчас принято говорить о виртуальной реальности.
И вот какое мы сделали наблюдение: степень увлеченности компьютерными играми прямо пропорциональна психологическому дискомфорту. Иными словами, чем больше у ребенка — обычно у мальчика — психологических трудностей в жизненной реальности, тем глубже он погружается в виртуальную. Конечно, уход от реальности в мир фантазий, грез и игры всегда был присущ людям с тонкой, ранимой психикой. Но чтение книг и тем более творчество требуют немалых усилий. Сверхчеловеком, творцом себя можно почувствовать только путем преодоления. А тут все по дешевке, почти задаром! Научился быстро нажимать на кнопки — и ты король.
Когда вы слышите, что ребенок ничем, кроме компьютерных игр, не интересуется, не обманывайтесь словом «интерес». Не может у интеллектуально полноценного ребенка вызывать устойчивый интерес то, что так однообразно и легко достижимо. Интерес в другом. Он лежит за пределами игры и называется жаждой власти. Но это не власть какого-то сверхразума, сверхволи, то есть всего того, чем бредили в конце XIX — начале XX века поклонники Ницше. Сегодня сверхчеловек — это герой криминальной субкультуры. Если можно так выразиться, субчеловек, сниженный, примитивный и, что самое существенное, агрессивно насаждающий эту примитивность как наивысшее жизненное благо. Этакая суперрептилия, которая желает, чтобы все покорно ползали под ее толстым брюхом.
Стихия редукционизма — а попросту говоря, примитивности — захлестывает земной шар. И на Западе дети мало читают и до умопомрачения смотрят телевизор или играют в компьютерные игры. И там у умных взрослых это вызывает тревогу. (В Германии, например, многие культурные родители не держат дома ни видео, ни компьютер, ни игровую приставку, чтобы у детей не было соблазна.) Но там реализации «сверхчеловеческих» претензий мешают крепкое государство, законы, имеющие реальную силу, дееспособные полицейские службы. У нас же разгулу своеволия сейчас ничто не препятствует.
Напротив, оно всячески подпитывается и даже возводится в ранг высочайшего достоинства! Сколько уже сказано и написано про то, что мы росли зажатыми, закомплексованными! И что наши дети зато будут раскрепощенными и свободными. Сказано — сделано. И, конечно, с пресловутым русским размахом. Потрясенная этим размахом английская журналистка рассказала землякам о посещении одного элитарного детского сада в Москве, где воспитатели разговаривают с детьми... стоя на коленях! Чтобы не возвышаться над ними и тем самым не унижать милых крошек. «Мы воспитываем маленьких принцев и принцесс»,— гордо прокомментировала «коленопреклоненность» взрослых директриса сада.
Безусловно, этот случай анекдотический, но примеров частных школ, в которых на детей совершенно «не давят» и они посещают уроки по желанию — сегодня пойдут к одному учителю, завтра к другому, а послезавтра вообще останутся в коридоре,— сколько угодно. Да и во многих государственных школах ученики с малолетства дышат «воздухом свободы», который проникает в классы сквозь разбитые стекла. И там со школьного двора несется отборный мат, а восьмиклассницы с виду мало чем отличаются от проституток.
И вот какая вырисовывается общая картина: государственная власть «отвратительна, как руки брадобрея», воспитатели и учителя — то есть школьная власть — вообще не власть, а обслуживающий персонал, родители потакают своеволию ребенка, путая его со свободой. «Пусть вырастет хозяином жизни! — говорят они и с тайным удовлетворением добавляют:— Ничто на него не действует: ни уговоры, ни просьбы, ни ремень. Если что вобьет себе в голову — все равно настоит на своем!..». Плюс подпитка властолюбия компьютерными играми и боевиками, где герои — крутые супермены, по сути, ничем не отличающиеся от уголовников. Плюс криминальный воздух в стране...
«Государство — это я»,— говорил Людовик XIV. В разоренном русском королевстве сейчас подрастают миллионы людовиков. И не только во дворцах, но и в хижинах, поскольку психология сверхчеловека растиражирована. Еще несколько лет — и масса королей и корольков станет критической. «Я» будет много. А государств?
Скверный анекдот
Чем дальше мы продвигались в написании этой книги, тем чаще говорили друг другу — сначала шутя, а потом и всерьез:
— Нет, ничего у них не выйдет! Наших людей — только дустом...
Был такой старый советский анекдот. На собрании секретарь обкома сообщает: «За истекший период в связи с внезапным падежом крупного рогатого скота потребление сливочного масла на душу населения снизилось на 100 процентов».
Вопрос из зала: «Ну, и как народ?».
Докладчик: «Нормально. Отнеслись с пониманием. (Продолжает.) В связи с ремонтом ТЭЦ вода поступает к населению раз в квартал».
Голос из зала: «И как народ?».
Докладчик: «С пониманием. В связи с пожаром на элеваторе хлебобулочные изделия в магазины не завозились. (Предвидя очередной вопрос.) Но люди наши сознательные. И на этот раз поняли все правильно».
Голос из зала (участливо): «Иван Иваныч! А вы дустом не пробовали?».
И вполне справедливо замечено, что наши анекдоты мало чем отличаются от реальности! А зачастую реальность бывает еще анекдотичней.
Иван Иваныч не забыл совет участливого анонима. И, пересев в начальственно-демократическое кресло, решил-таки «попробовать дустом». Ведь не только нам, но теперь уже и ему постепенно становится понятно, что русская культура не модернизируема в своих основах.
Очередной парадокс: казалось бы, такие революционные переломы, такие катаклизмы, всё вверх дном... Отказ от религии и поворот к воинствующему атеизму, яростная борьба с мелкобуржуазной (читай, крестьянской) психологией, Иваны, не помнящие родства, сброс классиков с корабля современности, открещивание от дореволюционных героев и экстренное создание новых, затем проклятие этих новых и — пустота... Вроде бы нет ничего постоянного, сплошное шараханье из крайности в крайность, поразительная, даже шокирующая переимчивость, высочайшая адаптивность, пластичность... Многих все это наводило на мысль, что у русского народа вообще нет ничего своего. Но в последнее время стало ясно (нам, во всяком случае, и, надеемся, не только нам), что эта пластичность иллюзорна. Она свойственна лишь культурным оболочкам, культурной «коже», то есть формальна. А форме, как мы уже писали, в России не придается особого значения.
И тут же напрашивается еще один вывод: чем пластичнее оболочки, тем больше деформаций они берут на себя и тем, соответственно, целостнее ядро. Тем недоступнее.
Но вернемся к «дусту» и спросим: как, по-вашему, что это в сегодняшней ситуации? Вы думаете, резкое обнищание? Но здесь никогда и не было чересчур богатой жизни. А пятьдесят лет назад, сразу после войны, она была для большинства просто нищенской. Кто-то скажет про обилие потрясений, стрессов. Дескать, они разрушительно влияют на психику, а значит, и на здоровье в целом. Но наша жизнь и раньше не позволяла особенно расслабиться. Когда здесь не было стрессов? Может, в период сталинских репрессий? Или после революции? Даже в брежневское время, которое многие склонны воспринимать как идиллическое, люди позволяли себе по-настоящему расслабиться только в компании близких друзей. Да и то — шутки о стукачах звучали уж больно навязчиво и как-то совсем не смешно...
Нет, стресс в России — дело привычное.
И духовное неблагополучие последних лет — это еще не «дуст». Растерянность — состояние временное и, похоже, это время на исходе.
Короче говоря, на невзгоды и лишения у наших людей выработался стойкий иммунитет. А «дуст» — это нечто такое, на что иммунитет отсутствует. Нечто небывалое, а потому с трудом опознаваемое в качестве смертельного яда.
Секс как школьный предмет... Небывалое? Небывалое. Воспринимается ли это обществом как серьезная опасность? Нет. В целом не воспринимается. По крайней мере сразу, с порога эту «новацию» отвергают лишь две категории людей: священники и психиатры — те, кто знают глубины человеческой души. Остальным же надо долго объяснять и доказывать, что уроки секса в школе вредны и противоестественны. Но, даже согласившись с этим и назвав пресловутое просвещение гораздо более адекватным словом «растление», мало кто отдает себе отчет в том, что это и есть «дуст». Причем не только обыватели, но и политики. Дескать, мелкая тема, немасштабная. До того ли, когда заводы-гиганты встают, наука загибается и вообще в стране экономический спад и кризис власти?
Но ведь заводы и науку можно восстановить. Да и кризис власти, бывает, заканчивается выздоровлением общества — в том случае, если на смену старым правителям приходят более умные и справедливые. Человека же не восстановишь. А без него не будет ни заводов, ни науки, ни экономики, ни власти.
Необходимость введения сексуального просвещения в школе мотивируется заботой о репродуктивном здоровье наших сограждан. Мол, сегодняшние дети — это завтрашние родители. И нужно, чтобы у них было здоровое потомство. Но вот что любопытно: в странах, где половое воспитание в школе существует уже около тридцати лет, с потомством дела обстоят весьма прискорбно. Его становится все меньше и меньше. В развитых странах воспроизводство населения попросту прекратилось. В США, например, происходит стремительное разрушение семьи: треть детей рождается вне брака, свыше половины браков кончается разводом. Уровень брачной рождаемости уже больше четверти века ниже порога простого воспроизводства. То есть налицо тенденция вообще не иметь потомства. Столицу Швеции Стокгольм уже называют «первым постсемейным городом». Две трети ее обитателей живут одни и не думают обзаводиться семьей. «Дети перестали быть необходимы семье. Вот страшный вывод, к которому приходит наука»,— такие горькие слова произнес социолог А.И. Антонов, участник одного из Всемирных конгрессов семей, еще в середине 90-х годов.
— Но при чем тут сексуальное просвещение? — спросит насторожившийся оппонент.
Да, мы знаем: принято считать, что причины тут прежде всего экономические. Но, как справедливо заметил герой «Собачьего сердца» профессор Преображенский, разруха начинается в голове. Разрушение семьи — плод прежде всего духовной деформации. И с сексуальным просвещением тут самая прямая связь.
Вот он, не сиюминутный, а истинный результат — цыплята, которых можно посчитать по осени. Их обучили «безопасному сексу», им старательно, пользуясь авторитетом учителя, внушали, что нужно «получать удовольствие от своей сексуальности» (цитата из одной просветительской программы), и подробно, педантично рассказывали про устройство пениса и фаллопиевых труб, подкрепляя рассказ яркими картинками, натуралистическими муляжами и даже мультфильмами. Люди все разные. На одних подействовало одно, на других — другое. Кто-то сызмальства усвоил, что дети на празднике жизни лишние и что «стерилизация — самый надежный способ контрацепции» (опять-таки цитата из программы!). У наиболее впечатлительных подростков анатомо-физиологические подробности вызвали брезгливость и отвращение. Это их, конечно, предохранило от «преждевременного дебюта», но и своевременного тоже не произошло. Кто-то, напротив, так запойно наслаждался, что быстро иссяк. Западные просвещенцы не захотели услышать предупреждение крупнейшего психиатра В. Франкла, который писал: «Сексуальность нарушается по мере того, как усиливается сознательная направленность и внимание к ней. Мы, психиатры, постоянно видим у наших пациентов, насколько же они под давлением “индустрии просвещения”... чувствуют себя прямо-таки обязанными стремиться к сексу. Однако мы, психиатры, знаем и то, насколько сильно это сказывается на ослаблении потенции».
В итоге расплодилось огромное количество импотентов, женщин, страдающих фригидностью, гомосексуалистов и лесбиянок, людей, которые «получают удовольствие от своей сексуальности» не с мужем или с женой, а... с сыном или с дочерью. Последнее на Западе сейчас очень популярно и часто именуется «проблемой номер один». Бытуют и «межвидовые контакты» (термин из отечественной программы Б. Шапиро «Быть вместе» для седьмого класса) — животный мир, знаете ли, очень разнообразен, и такое удовольствие можно получить... в общем, ломовой кайф!
Как вы понимаете, все это не способствует продолжению рода, так что удивляться демографическому спаду в развитых странах нечего. У нас же и без того катастрофическое снижение рождаемости. По утверждению демографов, разрыв между смертностью и рождаемостью в большей мере обусловлен низкой рождаемостью, нежели высокой смертностью. За 2001 год в России умерло 2 251 800 человек, а родилось 1 308 600. Внушительная разница, не правда ли? И похоже, в ближайшем будущем ситуация не выправится. По крайней мере, из прогноза Центра демографии и экологии человека Институту народно-хозяйственного прогнозирования РАН следует, что численность населения России к 2010 году сократится на 7,3 млн человек, то есть почти на 5 процентов! Сексуальное образование в школе значительно ускорит процесс депопуляции. Как тут не вспомнить М. Жванецкого: «Если мы захотим, молодежи вообще не будет»?!
Но в жизни это совсем не смешно. Скверный анекдот. Уже сейчас можно увидеть в метро или в автобусе такую картину: глубокая старуха еле стоит на ногах, но стоит, поскольку никто не уступает ей место. А не уступают потому, что среди сидящих это сделать некому — все люди пожилые. А теперь представьте себе то же самое метро, только лет этак через двадцать-тридцать. Длинный переход, по обе стороны которого застыло с протянутой рукой множество стариков и старух. И некому подать им милостыню, потому что молодых, здоровых, работоспособных, то есть тех, кто обычно подает, ничтожно мало. Может, кто-нибудь думает, что приехавшие сюда на заработки иностранные рабочие возьмут на себя благотворительную функцию? Но это очень глупая надежда, ведь они потому и приезжают на работу в другую страну, что им надо кормить своих детей и стариков.
И вообще, сторонникам сексуального просвещения школьников следует отдавать себе отчет в том, что в наших условиях это будет «штука посильней, чем “Фауст” Гете». Пожалуй, в русской культуре нет более табуированной темы, чем тема физической любви. В одной из предыдущих глав мы уже писали о культурном ядре, о той части культуры (и натуры), которая не поддается трансформации. Ядро можно только взорвать. Так вот, замалчивание интимных отношений — неотъемлемая часть русского культурного ядра. И попытки «отбросить ложную стыдливость» (штамп, назойливо повторяющийся в речах поборников сексуального просвещения) ни к чему, кроме откровенного безобразия, не приводят. Притом натура здесь у людей очень страстная: «Коль любить — так без рассудку...». Не забывайте, что вирус анархизма живет обычно в горячей крови. Но этот вирус, как мы уже писали, до поры до времени находится в рецессивном состоянии. Он подавлен православной этикой.
Кто-то спросит:
— А что, разве католическая этика поощряет откровенность в вопросах пола?
Как бы это поточнее сказать... Не поощряет, конечно, но и не исключает. Вспомните мадонн с обнаженной грудью, микеланджеловский «Страшный суд», который иначе как «гимн плоти» не назовешь и который, между прочим, украшает не что-нибудь, а оплот католичества — Ватикан.
Что же касается встречных аргументов про языческую Русь с ее оргийной культурой — в последнее время такое слышишь довольно часто — то, во-первых, дело это темное и малоизученное, а во-вторых, даже если оргийная культура и существовала, она не оставила заметных следов — ни письменных свидетельств, ни устных преданий. Нет русского «Декамерона», нет аналога куртуазному роману. Вернее, их нет на «столбовой дороге» нашей культуры. Никому ведь не приходит в голову включать в хрестоматию по русской литературе поэму И. Баркова «Лука М...в» и ставить «Гаврилиаду» (в сочинении которой, кстати, впоследствии раскаивался сам автор) в один ряд с «Евгением Онегиным». Так же, как никому в течение ста с лишним лет не приходило в голову зачитывать подобные произведения при детях и женщинах.
Ну а теперь представим себе, что наши дети будут под руководством взрослых изучать то, о чем у нас в разговорах с детьми принято традиционно умалчивать. Что может произойти при таком варварском посягательстве на культурное ядро? Конечно, ядерный взрыв. Особенно впечатляюще это будет смотреться на сегодняшнем криминальном фоне. Мы уже писали, что преступная среда сейчас становится все более притягательной для подростков. Фактически только семья может препятствовать такому притяжению, да и то не всегда. Сколько раз нам встречались в последние годы вполне интеллигентные мамы и папы, детей которых неудержимо влекло в уголовную среду! И печальному исходу тут мог помешать лишь сильный родительский авторитет.
Сексуальное просвещение в школе подрывает авторитет родителей. Да и как может быть иначе, если другой авторитетный взрослый — учитель — вдруг объявляет установки, воспитываемые семьей, неправильными и устаревшими? У нас в культурных семьях детям буквально с пеленок дают понять, что не следует проявлять повышенное внимание к своим или чужим половым органам. А здесь именно это становится объектом самого что ни на есть пристального внимания! Картинки, схемы, карточки, кроссворды, муляжи, мультипликация и даже... особые игры! Дети кидают друг другу мячик, один ребенок называет термин, второй дает определение («матка — это...», «влагалище — это...»). Стыдно? Да ничего подобного! Детям быстро объясняют, что стыд, который в семье считался несомненным и необходимым достоинством, это атавизм, что-то вроде аппендикса, и его надо как можно скорее удалить, чтобы не мешал. И вообще слово «стыд» употребляется только с эпитетом «ложный», а ложь — это же плохо!
Точно такая же история происходит практически со всем, что касается «сексуальной проблематики». Родители, находящиеся в здравом уме и твердой памяти, стараются всячески оградить детей от ранних связей, внушают им, что это до добра не доводит и что вступают в такие связи только неблагополучные подростки. И значит, это верный путь на социальное дно.
Взрослые даже намеренно сгущают краски, чтобы «застращать» свое чадо. Раньше школа была в этом вопросе солидарна с родителями. А теперь педагог-просветитель стремится «снять у детей страхи, связанные с сексом» (цитата!), «повысить практику секса» и помочь подросткам «познать истинные ценности, насладиться своей сексуальностью» (снова цитаты).
Что стоИт за раздачей детям презервативов и утверждением, будто бы сейчас выходить на улицу без этих изделий «немодно»? (Да-да, именно так теперь ставится вопрос, а на книжных закладках, которые сотрудники Российской ассоциации планирования семьи раздают школьникам, красуется надпись «Презерватив — это круто» и изображен «презерватив-весельчак».) А то, что половая жизнь в школьном возрасте — норма?! Этим занимаются практически все! А раз все, значит, так и надо. И разговоры «предков» про целомудрие и девственность нелепы и несостоятельны.
Почему-то никто до сих пор не обратил внимания на то, что эти программы предлагаются детям самого взрывоопасного возраста, когда подростковый бунт против родительского авторитета запрограммирован самой природой. А тут еще и школа вобьет клин между детьми и родителями. И по какому вопросу? По самому что ни на есть интимному, а значит, неприкосновенному. Да это не просто клин, а прямо-таки осиновый кол. Право же, нашим секс-просветителям не стоило бы с таким апломбом твердить о своем высоком профессионализме. Ведь тогда может возникнуть вполне закономерное предположение, что они специально подкладывают под наше общество мину, которая разнесет его вдребезги. Нет уж, в данном случае им куда выгоднее было бы считаться бездарными дилетантами… Сейчас и без всякого сексуального просвещения учителя и родители хором жалуются на стремительно возрастающую детскую возбудимость, неуправляемость, расторможенность. Все, что сегодня окружает наших детей — агрессивная жизнь, агрессивная масс-культура, агрессивные игры, грубо нарушает баланс двух основных нервно-психических процессов: возбуждения и торможения. Первое в избытке, второе в дефиците.
Одним из важнейших принципов, на которых зиждилась и русская, и советская педагогика, был принцип невозбуждения учащихся. Именно спокойствие «низа» давало возможность достучаться до «верхних этажей» личности ребенка и таким образом, насколько возможно, облагородить даже самые примитивные натуры. Введение сексуальных программ в школу поставит на этом крест. Это прямое, откровенное, грубое возбуждение (особенно в условиях нашей культуры). Все равно как машину со слабыми тормозами пустить с горы.
Многие педагоги жалуются, что дети после уроков сексологии «делаются бешеными». А в некоторых школах учителям уже приходится сопровождать малышей в туалет, чтобы оградить их от сексуальных посягательств «просвещенных» старшеклассников.
На Западе неуправляемость школьников сегодня доросла до масштабов государственной проблемы. Во Франции то в одной, то в другой школе ученики зверски избивают учителей. В США приходится проверять, нет ли у школьников оружия, и держать во многих школах так называемую команду «Кто?» — дюжих молодцов типа наших ОМОНовцев, которые в крайнем случае силой выволакивают зарвавшихся подростков из класса. А вы что думали, даром проходит систематическое растление детей, когда уже в ряде американских школ медсестры каждое утро заботливо наполняют две картонные коробки презервативами — для обычного секса и для орального?
Что же ждет нас? Или загадочная русская душа будет благоговеть перед учительницей, которая натягивает презерватив на банан?
У нас и так подростковая преступность растет вдвое быстрее взрослой. Неужели мало? Ей-Богу, складывается впечатление, что «наверху» постановили построить криминальное государство в ударные сроки и, как бывало в прежние времена, бросают на выполнение плана все силы и средства.
Ю. Никулин в комедии Гайдая пел: «Меня засосала опасная трясина…». Так вот, когда всю страну засасывает трясина преступности, казалось бы, нужно из последних сил оберегать сохранные участки — культурную часть общества, которая к преступности не склонна. Но — нет! Буквально на аркане тянут. Вместо того чтобы вернуть в школы беспризорников, развращают тех детей, которые пока еще хотят учиться.
В начале перестройки было модно говорить, что вся наша страна — сплошная «зона». Неужели накликали?
Залог выживания
Дети, по крайней мере столичные, стали гораздо меньше читать. Это слышишь почти от каждого родителя. Эмоционально они тоже сейчас беднее, одномернее. Такие наблюдения делают многие наши коллеги: детские психологи, психиатры, педагоги. Причины кажутся настолько очевидными, что и говорить не о чем: мол, чего вы еще хотите при таком засилье телевидения и компьютерных игр? Примерно то же самое, кстати, говорят и о взрослых, добавляя, естественно, слова про «закрученность», «работу на износ» и т. п.
И опять (в который раз) за видимой простотой сквозит загадка, которую мало кому охота разгадывать. А стоило бы задать вопрос: почему, собственно, все вокруг так резко взяли и поглупели? Еще совсем недавно были самым читающим народом в мире, а теперь выше женских романов и детективов не поднимаемся... Только ли потому, что раньше этого добра почти не было, а теперь, наоборот, навалом?
Да, конечно, запретный плод сладок, но он уже давно не запретный. Так в чем же дело? Ведь и кинобоевики, и детективы, и уже упомянутые женские романы при всей своей пестроте очень однообразны, ибо сделаны по определенным рецептам. Это не искусство, а кулинария, блюда одного сорта, отличающиеся лишь теми или иными добавками. Не случайно в серии книг «про любовь» не включаются произведения настоящих писателей. Не потому, что они не писали на эту тему, а потому, что их книги в серию не укладываются, они слишком нестандартны, нерецептурны. Но ведь нормальному человеку шаблон, набор стандартных приемов быстро приедается. Это, прежде всего, безумно скучно. Скучно до тошноты. Значит, дело не в интересе. И уж, понятно, не в том, что негде взять произведения большой литературы или большого кино. Кто хочет — тот находит. Почему же не хотят?
Безусловно, сейчас наблюдается некий общемировой процесс опрощения, инфантилизации взрослых людей. Появился даже новый термин — «плейбоизация». Сотни миллионов мужчин и женщин по всему миру отвергают высокую культуру, довольствуясь суррогатами. И в отличие от прежних времен это не вызывает у них чувства неполноценности, а напротив, дает ощущение превосходства. Этакие герои рассказов М. Зощенко, только не убогие и нелепые, а гордые своей эталонностью.
Но, во-первых, в России это произошло уж больно стремительно, ведь еще не выросло ни одного поколения, воспитанного, условно говоря, на журнале «Плейбой». А во-вторых, «эталонный образ жизни» доступен у нас только весьма незначительной группе людей и ассоциируется у большинства остальных граждан с воровством, то есть не может служить истинным образцом.
Еще высказывают соображение, что в советскую эпоху для огромной категории людей просто не было книг и фильмов, соответствующих их вкусам. Им нечего было читать, нечего смотреть, а теперь они, спасибо демократическим переменам, обрели такую возможность.
Но и в этом аргументе есть какая-то неувязка. Посмотрите повнимательней на усталую мать семейства, которая едет в метро после рабочего дня и читает книгу с малопристойной картинкой на обложке. Взгляните на мужчину, который вошел в электричку и ненатурально звонким голосом рекламирует газету «Миллионер». Вспомните, наконец, своих знакомых, которые раньше читали Фолкнера и Маркеса, а теперь интересуются только газетами. Но иногда — особенно если они немного выпьют — их будто прорывает, и они начинают, волнуясь, как на первом экзамене, говорить о чем-то сложном, трудно выразимом, небытовом — о чем всегда было принято здесь говорить среди культурных людей. И уходят со счастливой улыбкой, хотя в разговоре вовсе не был обретен путь к счастью. А прощаясь, смущенно бормочут, что им давно не было так хорошо и что они как будто вдруг стали прежними. И тогда понимаешь, что их опрощение на грани примитивизации — это форма патологической защиты.
Мы давно об этом догадались, наблюдая детей-невротиков. Некоторые из них выглядят эмоционально и даже интеллектуально неразвитыми, а потом, когда удается преодолеть их невротизм, оказывается, что они, наоборот, сверхчувствительны и не по годам умны. Но, не справляясь с «суровой правдой жизни», их ранимая душа постаралась отгородиться от мира, обрасти коркой, коростой.
Вот и многие взрослые «опрощаются» по этой схеме. Слишком больно быть пассивными реципиентами зла. Потому и от настоящего искусства отгораживаются, под любым предлогом избегая общения с ним — большое искусство своей концентрированной энергией прожигает коросту. А в такие времена, когда человеку кажется, что он бессилен перед стихией зла, лучше не бередить душу. А то встрепенется она, рванется и упадет, ударившись о реальность. И лишний раз будет унижена ощущением своей немощи.
Не нарушайте ж, я молю,
Вы сна души моей.
И слово страшное «люблю»
Не повторяйте ей,
— написал в своей «Элегии» А. Дельвиг.
Да, беспомощному, фрустрированному человеку страшны и счастливые воспоминания!
Наверное, тут уж наш оппонент не выдержит и взорвется:
— Вас послушать — так сейчас прямо ад кромешный! А в сталинские времена человек что, чувствовал себя Гераклом? Разве он не был жалким винтиком в чудовищной, гигантской машине зла? И ничего, прекрасно потреблял высокое искусство!
Что касается Гераклов, винтиков и высокого искусства. Можно, конечно, утверждать, что «советская система стремилась сформировать тип личности, одной из важных особенностей которой являлось принципиальное отсутствие у человека потребности самому строить свои жизненные планы» (сборник «Этика успеха». Вып. 10). Но лучше представить себе, что за этим стоит. Раньше человек устраивался на работу и мог оставаться на ней до пенсии. Но отсутствовала ли у него потребность строить жизненные планы? Или, наоборот, социальная стабильность высвобождала энергию для частной жизни, для личных интересов? Не нужно было «крутиться», поэтому оставалось время для воскресных туристских походов, участия в самодеятельности, лекций и бесконечных курсов повышения квалификации, заочных институтов культуры, посещения театра, кино, концертов и выставок, рыбалки и охоты, общения с друзьями, любовных романов, сидения в библиотеках и домашнего чтения, разных хобби, воспитания детей — да мало ли что еще мы не перечислили! Частная жизнь людей была очень насыщенной. Правда, им порою казалось, что это не так, но они тогда еще «жизни не нюхали». Получается, что в доперестроечную эпоху сохранялся для русского культурного человека баланс формы и содержания: формально, внешне жизнь выглядела довольно однообразно, а «начинка» отличалась богатством и разнообразием.
Теперь всё наоборот. При внешней пестроте внутренняя жизнь большинства людей стала гораздо более одномерной и, по сути, сводится к пресловутой борьбе за выживание. Нельзя же всерьез говорить о том, что «сокращенный» инженер или рабочий, лихорадочно обзванивающий фирмы в поисках заработка и с тоской думающий о том, у кого еще можно занять денег на прокорм, осуществляет «потребность самому строить свои жизненные планы».
Вот что, например, сказала одна наша знакомая, которой многие завидуют, потому что она «хорошо устроилась»: не мерзнет с утра до ночи у торгового лотка, не отправляется в «челночные рейсы», а сидит себе на телефоне и успешно координирует поставку разных товаров на предприятия и в учреждения:
— Надо же, у кого-то еще хватает сил про мировые проблемы думать! Я лично давно чувствую себя выпавшей из жизни. Не человек, а автомат для зарабатывания денег на себя, ребенка и двух стариков. И женщины вокруг меня, мои подчиненные, они тоже предпочитают не задумываться. Ведь так больно знать, что ты уже не человек!
— Но зато теперь ты хозяйка своей жизни, а раньше была винтиком,— сказали мы.
— Нехорошо издеваться,— обиделась она.— Я вам повторяю: жизни — нет. Мы все на себе поставили крест.
А если посмотреть формально, эта женщина только и делает, что проявляет инициативу.
Ну а о высоком искусстве она тоже обронила весьма симптоматичную реплику:
— Стихи давно в руки не беру. Даже когда по радио слышу, выключаю. Это мне сейчас не по нервам.
Могла бы она даже в такой неблагоприятной для русского культурного человека ситуации (раньше была художницей, а теперь торгует халатами и бельем) не чувствовать себя униженной и оскорбленной? Могла бы, если бы знала, что так будет не вечно, а главное, если б в этом была высокая цель. Ради ребенка и стариков родителей это с точки зрения нашей культуры, конечно, лучше, чем ради себя. Но — недостаточно, ибо собственные дети и родители включены в категорию «мое». Иначе говоря, имеет слишком биологическую природу, чтобы человек, воспитанный в духе православной этики, мог этим гордиться. И сколько бы он ни внушал себе, что так и надо, его архетипическое начало, его, как сказал бы Юнг, «коллективное бессознательное» бунтует. Честно говоря, и западного человека центрация на себе и на качестве жизни приводит к самым разным нервно-психическим искажениям, которые блестяще описаны у австрийского психиатра В. Франкла под общим названием «нооневрозы», возникающие из-за утраты смысла жизни. А уж для наших людей с их стремлением к общинности, которая — нравится нам это или не нравится — сидит в самом центре культурного ядра, атомизация и биологизация жизни совершенно губительны. А если бы описанная нами женщина осталась художницей? Допустим, у нее был бы муж, который смог бы обеспечить семью. Что тогда? Счастье творческого самовыражения? Но какое же это счастье, когда творчество не востребовано? И не потому, что суровая власть закрывает вольнолюбивому творцу путь к почитателям таланта (это вполне соответствует нашему традиционному образу Художника), а потому, что замордованным жизнью людям не хочется общения с искусством. И дело не в том, что жизнь тяжела, а в том, что по своей мелкости и бессмысленности она оскорбительно несопоставима с масштабом настоящего искусства. И поскольку с жизнью непонятно что делать, гораздо проще уменьшить масштаб потребляемого искусства, снизить его градус. Итак, круг быстро замыкается: наша художница не может быть счастлива в обществе, которое не помнит о ней и не имеет к ней никакого отношения. Даже отрицательного.
Но это взрослые. А дети вроде бы не знали другого. Им не с чем сравнивать. Они с удовольствием выберут «пепси». Выберут — и своим незамысловатым выбором будут счастливы. Этакие радостные повзрослевшие обезьянки, умеющие с помощью новейших препаратов побеждать перхоть, кариес, прыщи...
И многие взрослые, забывая о том, что воспитание — это приобщение ребенка к верхним этажам культуры, покорно принимают новые правила игры. Родители (они, естественно, не называют своих детей обезьянками, но суть от этого не меняется) как-то чересчур легко, и даже не без оттенка мазохизма, признают свое бессилие в борьбе с культурной деградацией.
— Разве его заставишь читать? — вопрошают они так обреченно, как будто речь идет о неуправляемой природной стихии.
Но при этом тратят уйму сил и энергии на то, чтобы заставить того же самого «неуправляемого» ребенка почистить зубы перед сном, доесть обед, надеть шапку. У некоторых родителей почти все общение с детьми сводится к такой бытовой дрессировке! Значит, дело не в неуправляемости, а в воспитательных приоритетах.
Приоритетность «простого» культивируется и в школьной среде. Увлечение тестами, легко тиражируемыми методиками, все большая опора на визуальную информацию в ущерб словесной, постепенный отказ от наставнической роли взрослых и от воспитания примером. Спросите сегодняшних подростков, на кого они хотят быть похожими. И многие вам ответят, причем не подумав, уже заученно, автоматически: «На самого себя». Хотя испокон веку в самых разных культурах воспитание строилось на подражании образцам, эталонам. А когда от этого отказывались, общество стремительно приходило в упадок.
Но теперь отказ от идеалов активно поощряется, поскольку расценивается как проявление индивидуальности. Самовыражение стало новой догмой. Хотя какую самость может выражать подросток, напичканный примитивными, массовыми (то есть обобщенными, безликими) стереотипами? Любовь к роликовым конькам? К тому или иному сорту жвачки, рекламируемой по телевизору? Очень показательна в этом смысле история, происшедшая в одной из московских школ. На уроке литературы детей попросили сравнить... композицию двух живописных портретов, десять раз повторив, что они могут свободно выражать свое мнение. При этом некоторые школьники даже ни разу не были в Третьяковке! А уж о законах композиции и прочих искусствоведческих «штучках» и слыхом не слыхивали. Но установка на самовыражение сработала. И, коряво выразив что-то невнятное и беспомощное, восьмиклассники пребывали в блаженной уверенности, что они оказались на высоте. Не важно, что они выразили ни на чем не основанное мнение. Главное, что свое! САМО-мнение. Так воспитывается, по выражению Д. Мережковского, Грядущий Хам.
И этого Хама наперебой обслуживают детские и юношеские издания. «Детям нравится, когда просто. Молодежь любит “жареное”»,— говорят одни. Другие более откровенны: «Мы пишем для быдла (вариант: для дебилов)». Коротенькие, простенькие материалы, никакой теории, только практические советы. Желательно с криминальным душком. Даже такие журналы, которые, казалось бы, озабочены судьбой молодого поколения, все равно, как доходит до дела, предпочитают печатать детективы, а не серьезную литературу. Чтобы не потерять читателя. Таким образом, они тоже потакают деградации.
Ну а телевидение вообще не нуждается в пространных комментариях. Причем самое забавное, что многие теледеятели искренне уверенны в полезности своей культуртрейгерской работы!
— Почему на нас все нападают? — негодовала ведущая одной из молодежных программ.— Что интересует современных подростков? Только рок-музыка и секс. Вот мы и стараемся удовлетворить их интересы.
Исходя из этой логики, пора учить детей, особенно мальчишек, пользоваться огнестрельным оружием и изготовлять взрывчатку. Ведь это их тоже очень интересует.
Опыт, правда, показывает, что интересы детей надо не столько удовлетворять, сколько сначала сформировать. На «секс-примере» это особенно очевидно.
Да, конечно, в подростковом возрасте дети проявляют любопытство к вопросам пола. Но далеко не все так «сексуально озабочены», как наше Министерство образования, чересчур поспешно включившееся в мировые программы полового воспитания детей. Зато практически все подростки начинают интересоваться человеческими отношениями. Самыми разными, не только любовными. Именно в этом возрасте у многих детей впервые появляются настоящие друзья — не ситуационные и легко заменимые товарищи по играм, а именно друзья, без которых немыслима жизнь. И соответственно, актуализируются вопросы ревности, предательства, лидерства, собственного и чужого достоинства и прочие.
Появляется желание заявить о себе как о личности. И страх собственной малозначимости. И судорожные поиски оригинальности. И вопросы о своем месте в мире. Да мало ли что еще волнует людей в период генеральной репетиции взрослой жизни!
Почему же «друзья» детей усиленно привлекают их внимание только к нижепоясной сфере? Почему видят в них только постоянно спаривающихся животных? Выдают желаемое за действительное или меряют по себе?
Вот только одна деталь. В печально известных анкетах, которые в рамках «полового воспитания» раздавались ученикам седьмых-девятых классов, секс упоминается восемьдесят пять раз, а любовь — всего два(!). Причем в таком контексте, что, по сути, это тоже легко заменимо словом «секс».
А ведь и психиатрам, и психологам прекрасно известно, что фиксация подростков на сексе тормозит интеллектуальное развитие. «Широкомасштабные исследования, проведенные австрийским психиатром Ш. Бюлер, показали, что сексуальные связи слишком юных девушек... привели к выраженному сужению их общих интересов, к ограничению их интеллектуального горизонта»,— пишет все тот же В. Франкл. Да разве обязательно быть крупнейшим психиатром и проводить широкомасштабные исследования, чтобы додуматься до истин, известных любому здравомыслящему человеку?! В каждом классе можно встретить одну-двух рано созревших девочек, у которых на уме только свидания, причем отнюдь не романтические. С учебой такой «половозрелый ум» уже не справляется или справляется с большим трудом. А уж на внешкольное (необязательное) интеллектуальное развитие энергии и подавно не хватает.
Очень уместно привести здесь мнение и отечественного светила. Один из первых наших сексопатологов профессор Г.С. Васильченко, говоря о половом формировании человека, подчеркивает огромное значение платонической или романтической фазы для нормального развития личности. Как нетрудно догадаться, эта стадия приходится именно на подростковый возраст. «В практике сексопатолога иногда наблюдается редукция (упрощение) одной из стадий»,— пишет Г.С. Васильченко и поясняет, что редукция романтической стадии обычно происходит у людей с «невысоким интеллектом и бедной фантазией (легкая степень олигофрении)».
Детей с задержками психического развития в сегодняшней школе более чем достаточно. Что, надо довести этот показатель до 100 процентов?
Но, может быть, нашим детям и не нужно быть особенно умными? Может, и правда «горе от ума», а «дуракам счастье»? Ведь именно этот, чаще бессознательный, мотив лежит в основе пассивности родителей, которые видят примитивизацию детей, вяло сожалеют, но не дают этому бой. «Кому мы нужны со своими знаниями, своей культурой, своей интеллигентностью? — думают они.— Чего мы добились? Нет, пусть будут проще. Чем проще человек — тем легче ему жить». Но если исходить из этой логики, то легче всего было бы жить клиническому идиоту. Однако у таких людей, наоборот, резко снижена жизнеспособность.
Вы скажете, мы утрируем? Хорошо, оставим клинику в покое и зададим вопрос: в какой среде самый высокий травматизм, самое большое число убийств, ранних смертей, алкоголических отравлений и прочего? В ответах вряд ли будут разночтения: в среде малокультурной, невежественной — как раз там, где люди устроены примитивно, и, следовательно, на сложные жизненные обстоятельства они не в состоянии адекватно ответить — у них не развита душа.
Сейчас часто говорят, что чем сложнее система, тем она устойчивее, но почему-то не проецируют это положение на человека. А ведь у сложно устроенных людей существует многоуровневая психологическая защита. Нижние уровни дают сбой — активизируются верхние. Особенно это актуально сейчас, когда жизнь так неустойчива, так непредсказуема, а нередко и катастрофична.
Куда денется человек с примитивными интересами и желаниями, если однажды жизнь повернется так, что он больше не сможет их удовлетворять? «Верхушки»-то у него нет! Он не знает счастья романтической любви, потому что у него еще в детстве украли эту тайну; его не окрылит встреча с настоящим искусством, не утешит служение чему-то с большой буквы: Науке, Идее, Отечеству, Богу; его не отвлекут от своего горя заботы о другом, еще более несчастном. Ибо для всего этого нужно обладать развитой, сильной, богатой душой.
Хочется еще раз вспомнить западного психиатра В. Франкла. Не с чужих слов узнавший кошмар гитлеровского концлагеря и впоследствии очень много общавшийся с бывшими узниками Дахау и Освенцима, он отмечал, что люди приземленные, с животными интересами, погибали в лагере быстрее, чем, казалось бы, хуже приспособленные к жизни альтруисты, мечтатели и священники.
Так что просвещенная душа в «наше трудное время» не только не рудимент, но и — залог выживания.
Образцовые индивидуалы
Из детских учебников постепенно исчезает слово «народ». Да и вообще оно становится все менее употребительным. Сначала его старались не употреблять, чтобы не пахло советской патетикой, потом — чтобы не сталкиваться с каверзным вопросом: «А что такое народ? Определите!». Ну а теперь как будто и определять стало нечего, потому что единого народа больше не существует. Во всяком случае это мнение сейчас очень популярно. О каком народе, спрашивают, может идти речь, если один народ подался в богачи, а другой обнищал? Третий работает на богачей, а четвертый, прокляв кабалу заводов и фабрик, где надо было «пахать» от звонка до звонка, торгует в свое удовольствие на рынках. Так что вместо единого народа страна теперь состоит из этаких членов различных клубов по интересам. А некоторые и вовсе одиночки, сами себе клуб. Дескать, где та общность, та объединительная идея, которая позволяет называть жителей сегодняшней России словом «народ»?!
— И слава Богу! — говорят либералы.— Что хорошего было в этой общинности (а если называть вещи своими именами — стадности)? Пора понять, что наш пресловутый коллективизм — это порок, которого надо стыдиться. И распрощаться с ним раз и навсегда!
Но, как показывает опыт последних лет (о чем мы уже неоднократно писали), отказ от установки на ту или иную общность очень быстро приводит в нашей стране к весьма печальным и уродливым последствиям: к мафиизации (то есть все равно к созданию общности, только преступной) и к распылению культурных слоев, которые и есть «несущая конструкция» государства. Соответственно, и государство в таких условиях быстро идет в распыл.
И надежды на закон как высший регулятор нашей жизни — последнее прибежище либералов — это роковое заблуждение. В который раз желаемое выдается за действительное. То, что у нас не работают законы, даже неприлично повторять — настолько это сегодня стало общим местом. Это говорят все, вплоть до наших законодателей из Государственной думы, которых так и хочется спросить: «Тогда зачем вы там заседаете?».
Но давайте вдумаемся, что стоИт за расхожими словами о царящем у нас произволе. Разве нарушителей закона никогда не наказывают и торжествует одно лишь беззаконие? Разве не бывает неподкупных судей? И, наоборот, разве в тех странах, которые славятся своим уважением к законам, не бывает судебных ошибок, подлогов, разве там никогда не засуживают невиновных, польстившись на крупные взятки? А как же тогда громкие скандалы, то и дело вспыхивающие в самых разных странах? Вот, скажем, несколько лет назад Францию потрясла душераздирающая история двадцатишестилетнего юноши, которого, когда он был двенадцатилетним мальчишкой, украли сатанисты. Четырнадцать лет над ним совершали уму непостижимые надругательства: его насиловали, истязали, заставляли пить кровь... Наконец каким-то чудом ему удалось бежать. Семья юноши, естественно, обратилась в суд. И потерпела полное фиаско, которое объяснялось очень просто: в одном из судей юноша узнал... члена той самой секты! Когда же пострадавший обратился в более высокие инстанции, то и там увидел печально знакомые лица.
Почему же тогда у французов или американцев нет устойчивого впечатления, что их захлестывает стихия беззакония, а у нас есть?
Вы скажете:
— Потому что там не такая высокая преступность.
Но уже несколько лет, начиная с 1999 года, США занимают первое место в мире по относительному количеству заключенных, обогнав по этому показателю Россию. Так что дело, очевидно, не в этом.
Люди часто чувствуют правильно, а точно выразить словами свои чувства не могут. В данном случае мы сталкиваемся именно с таким феноменом. Работают у нас законы! Худо-бедно, но работают. Только они не решают, а вернее, не определяют нашу жизнь. Не являются высшей инстанцией, сверхценностью. Для кого-то это, может быть, очень огорчительно и даже возмутительно, но возмущаться тут почти так же бессмысленно, как возмущаться дождем или жарой. Такое отношение к законам лежит в самой сердцевине русской культуры, в культурном ядре. Тут и пренебрежение формальностями (вспомните хотя бы, какая у нас болезненная реакция на бюрократические процедуры; причем после поднятия «железного занавеса» наши люди с изумлением обнаружили, что во многих западных странах бюрократы почище наших, но при этом, противореча своим же наблюдениям, не устают повторять про ужасное, кошмарное засилье бюрократии в России), тут и явное предпочтение неформальных, человеческих отношений всем остальным. Одно это слово — «человеческий» — говорит само за себя! Все остальные формы контактов, стало быть, нечеловеческие... «Я же с тобой по-человечески разговариваю, а ты...» — последний аргумент в конфликтном диалоге.
И в суд здесь обращаются только в самых крайних случаях, когда по-людски договориться не удается. А очень часто и не обращаются вовсе, ссылаясь на волокиту. Хотя это тоже внешнее, формальное объяснение. А на самом деле им таскаться по судам глубоко противно, противоречит естеству, противоестественно. Те же, для кого обращения в суд естественны и не вызывают никакой внутренней неловкости, те, кто по любому поводу вчиняют иски обидчикам, в условиях нашей культуры делятся на две категории: на профессиональных юристов и на городских сумасшедших. Хотя в антураже западной культуры многие представители второй категории были бы отнесены к людям с развитым правовым сознанием. А у нас таких в лучшем случае называют сутягами. Отчетливо презрительный оттенок этого слова (аналогов которому, между прочим, в других европейских языках нет) даже у ярых поборников «священного права» не может вызвать сомнений.
— Ну что вы мудрствуете? — поморщится оппонент.— Просто лень вперед нас родилась. Да! Нам лень открыть уголовный кодекс, проконсультироваться с юристом, грамотно составить исковое заявление, регулярно справляться о ходе дела.
Но не странно ли, что тем же самым людям не лень таскаться в набитых электричках на загородный участок и два выходных дня, не разгибая спины, работать на огороде?
Вы скажете, они вынуждены делать это, чтобы не умереть с голоду. Но, во-первых, на грядках возятся не только обнищавшие люди, но и те, кто вполне в состоянии купить салат и редиску на рынке. А во-вторых, уж если речь зашла об экономических соображениях, то выигранный судебный процесс сулит гораздо большую выгоду, чем самолично выращенная картошка.
Так что суть не в рациональных причинах, а в глубинной, невытравляемой тяге к земле и столь же глубинной для нашей культуры неприязни к формальному праву. В первом случае душа лежит, а во втором — с души воротит. Из этого, конечно, не следует, что нам вздумалось воспеть произвол, но какие-то явления нужно принимать не потому, что они нам нравятся, а потому, что их бессмысленно отвергать. Явления-то не исчезают, а мы от бесплодной борьбы впадаем в состояние хронического стресса.
Ну а что же означает приоритет человеческих ценностей над правовыми? Как тут сплетается общественная ткань? Она сплетается из множества неформальных контактов: родственных, дружеских, приятельских, прямых и косвенных, очных и заочных. Помните в 70-е годы было слово «нужник»? Так называли продавцов товаров и услуг, которые что-то доставали из-под полы,— то есть нужных людей. С точки зрения человека, выросшего в обществе, где приняты более формальные контакты, в подобных отношениях нет ничего оскорбительного. Полезный человек? — Очень хорошо! В нашем же культурном контексте функциональное отношение к человеку травмирует. И того, к кому так относятся, и того, кто так относится. Недаром наши отношения почти мгновенно выходят за рамки деловых (нередко в ущерб делам). А люди, окруженные исключительно «нужниками», становятся мизантропами и считают, что мир состоит из подонков, что никому нельзя верить и что в конечном итоге никто никому не нужен. (Ну разве не парадокс?!) Конечно, неформальными контактами пронизана жизнь в любом обществе, но в России за счет того, что их множество, общественная ткань очень плотная. По сути, это и есть общинность. Другое дело, что она бывает как бы разных сортов, разных уровней: стадность, коллективизм, соборность. И, выражая неприязнь к общинности, называя ее стадностью, обычно имеют в виду или нижний уровень (толпу), или средний, когда он граничит с нижним. Подобных примеров в советское время было хоть отбавляй. И конечно, когда человек сталкивается с такими уродливыми проявлениями, ему хочется их искоренить.
Быть может, тема искоренения нам знакома несколько больше, чем многим нашим читателям. Когда проблемного ребенка приводят на консультацию, родители, как правило, надеются, что специалист устранит, то есть искоренит недостаток: застенчивость, лень, упрямство, агрессивность.
— Он у нас такой тихий (или, наоборот, слишком развязный),— говорят они.— Вот мальчик на лестничной клетке, его ровесник, ну совсем другой!
И за этими жалобами отчетливо или смутно угадывается мольба: «Пусть он будет, как тот! Пусть будет другим!». Думаете, мы скажем сейчас, что они хотят невозможного? — Нет, все возможно. Подавляешь волю ребенка разными психолого-педагогическими приемами (или, если использовать модное словечко, технологиями) — и вчерашний драчун превращается в тишайшее, кротчайшее существо. Сломленное, правда. Не совсем живое. Словно замороженное. И соответственно, безынициативное, равнодушное. Родители на такого ребенка не могут смотреть без слез и мечтают уже о том, чтобы он вернулся в свое обычное состояние. Пускай будет драчуном, лишь бы самим собой, прежним! Яркие примеры такого «перерождения» — это дети после длительного пребывания в больнице в отрыве от родителей. И конечно, жертвы тоталитарных сект, где человека перекодируют, предварительно полностью подавив его волю. Так что путь ломки и искоренения недостатка далеко не самый удачный. Мало того, он чреват множеством опасностей.
Продолжим пример с агрессивностью. Кто-то может сказать:
— Да, родителей, конечно, неестественная кротость ребенка огорчит. Зато окружающие вздохнут с облегчением.
Но, условно говоря, волк не может долго находиться в наглухо зашитой овечьей шкуре. Рано или поздно он начнет задыхаться, и, когда приступ удушья будет грозить ему гибелью, зверь в неистовой ярости разорвет не только опостылевшую овечью шкуру, но и всех окружающих. И снова предстанет в обличье волка. Однако теперь это будет взбесившийся, а значит, еще более опасный волк.
Что же делать? Оставить агрессивного человека в покое? Пусть будет такой, как есть, чтобы близкие хватались за голову, а чужие шарахались? — Нет, тоже ничего хорошего. Тогда где выход?
Самый, как нам кажется, продуктивный путь — это не искоренять недостаток, а... превращать его в достоинство. Ведь если разобраться, то практически в любом недостатке заложен потенциал достоинства, нужно только перевести этот недостаток на новый, более высокий уровень, возвысить его. Возьмем все ту же агрессивность. Плохо? — Плохо. Но если человек не дерется с кем попало, а возвышается до активного защитника слабых, его агрессивность переходит в разряд достоинства, элевируется. Или, скажем, жадность. Это, конечно же, порок, а для нашей культуры особо тяжкий. Но элевированная жадность становится бережливостью, что уже воспринимается со знаком плюс. Застенчивость, переведенная на более высокий уровень, преображается в скромность, высокомерие — в чувство собственного достоинства, слабоволие — в умение идти на компромиссы (в идеале такой человек может стать миротворцем), упрямство — в целеустремленность, анархизм — в творческую самостоятельность. Каждый может мысленно продолжить этот перечень.
Мы много раз шли по такому пути, работая с трудными детьми и подростками. И получали отрадные результаты. Свой метод повышения уровня личности, возвышения души мы называем психоэлевацией. И думаем, что основные принципы такого подхода стоило бы перенести — естественно, творчески, с поправками — на общество. Так что отвергать, искоренять общинность в России — занятие бесплодное и небезопасное. Лучше подумать, как ее элевировать, чтобы она не деградировала в стадность, не регрессировала до воровских банд, не вырождалась в тоталитарное подавление личности.
Если же продолжать упорствовать, то наши дети, обреченные на жизнь в противоестественных для нашей культуры условиях, непременно нам отомстят. И отомстят быстро и страшно.
Психологи, анализирующие детские рисунки, дружно отмечают, что они становятся все более мрачными, что в них все отчетливей просматриваются темы одиночества и агрессии. Защиты нет ни в обществе, ни в семье. В последние годы большинство детей рождается у матерей-одиночек. Во многих семьях дети испытывают хронический дефицит общения.
При этом установки продолжают быть вполне традиционными. Одна из популярнейших родительских тревог — плохая контактность ребенка. Вот почему поначалу кинулись все кому не лень посещать разные тренинги общения! (Сейчас, правда, поостыли.) Что, разве у нас общаться не умеют? То-то эмигранты из России не устают говорить о том, что они больше всего скучают по настоящему общению! Получается, что дело опять-таки в другом! В том, что дар общения в России — сверхценность. А поскольку люди здесь повышенно самокритичны (это тоже свойство национального характера), многим кажется, что столь необходимый дар развит у них недостаточно. И они наивно полагают, что тренинги общения «поспособствуют». (Очевидный курьез, ибо тренинги общения пришли к нам оттуда, где, как минимум, сто последних лет тема одиночества — одна из культурных доминант!)
Собственно говоря, и претензии к детям в плане общения часто бывают завышены. Предположим, родители жалуются, что ребенок замкнутый, нелюдимый — словом, бука. А когда начинаешь расспрашивать поподробней, оказывается, что у юного анахорета есть товарищ. Даже два! Но в большом детском коллективе малыш теряется.
— Все играют, а он рядом,— взволнованно поясняет мать. — Хочет, а решиться не может.
Выгляните из окна во двор и понаблюдайте за детской площадкой. Многие ли дети играют в одиночку? Или вы думаете, что так везде?
— У вас дети всегда что-то делают вместе,— сказала нам одна немка.— У нас не так.
И действительно, будучи в Германии, мы заметили, что там дети предпочитают играть если и рядом, то не вместе — каждый сам по себе.
И вот что существенно. В последние годы мы наблюдаем резкое смещение воспитательных усилий в сторону дошкольного периода. Родители, словно спринтеры, полностью выкладываются на первой стометровке. Как будто она последняя. Это касается и интеллектуального развития, и умения общаться. Причем в сфере общения эти перекосы особенно вопиющи. На самом деле в дошкольном возрасте многим детям вполне достаточно общения в кругу семьи и во дворе. Их же запихивают в детские сады, нередко с травматическими последствиями для психики. А когда спрашиваешь: «Что, не с кем было оставить?», часто слышишь в ответ: «Почему не с кем? Бабушка бы рада его дома нянчить. Но надо же приучать к коллективу! Как он дальше жить будет?».
Однако, когда дело приближается к подростковому возрасту и наступает наиболее благоприятный или, как говорят психологи, сензитивный период для встраивания ребенка в общество, оказывается, что этим никто не озабочен. И наоборот, детям по всем возможным каналам транслируется современная установка на индивидуализм.
В результате возникает очень серьезный конфликт: с установкой на индивидуализм вступают в борьбу и архетипическая общинность, и воспитание в раннем детстве, и сама логика нашей жизни, весь ее уклад. Дети-индивидуалисты попадают в разряд изгоев, и им приходится защищаться показным высокомерием, которое требует огромных психических затрат, а следовательно, исподволь разрушает психику. У таких детей обычно масса проблем, они озлоблены, раздражительны — короче, искажены. И в перспективе это, конечно, не подарок ни для семьи, ни для общества.
Но если кто-то и думает, что, наплодив индивидуалистов, мы наконец-то преобразуем наше общество и оно станет «нормальным», то спешим его огорчить. Так не будет. Внутренний конфликт найдет свое архетипическое разрешение: вместо того чтобы вступить в конкурентную борьбу между собой, «свободные российские индивидуалы» вступят в борьбу с государством, насаждающим противоестественные для их нутра установки и, соответственно, воспринимающимся как нечто чужеродное и откровенно враждебное. Да, собственно, они уже и вступили на разных уровнях, что мы рассмотрели в предыдущих статьях довольно подробно! Но поскольку анархическому гену привычнее здесь быть в подавленном состоянии, период неприятия государства вообще будет длиться, скорее всего, недолго, и на смену ему неизбежно придет период борьбы с данным конкретным государством во имя построения нового. Наши исторические уроки в этом отношении достаточно наглядны.
Впрочем, есть и «мирный вариант». Знаете, кто быстрее всех воспринял западно-либеральную установку на неагрессивный индивидуализм? Попробуйте догадаться. Когда не то что бы человек человеку — волк, а просто ты никому не должен и тебе никто не должен. И вы друг друга не трогаете. Живете рядом, но не вместе. И в любую минуту вольны уйти, вернуться, снова уйти и уже не вернуться никогда. Сегодня вам захотелось вступиться за слабого — и вы вступились, а завтра неохота, «в лом» — и вы невозмутимо проходите мимо знакомого малолетки, которого обижают здоровые лбы. Главное — «я хочу». Это и догма, но в то же время и руководство к действию. Правда, действие как-то очень быстро сводится к удовлетворению элементарных биологических потребностей. И, как с удивлением отмечают люди, изучающие эту особую среду, в ней практически не образуется устойчивых социальных связей. Ни негативных (шайка), ни позитивных (коллектив). Даже если люди живут бок о бок целый год. Это квазисообщество и квазижизнь, которая в большинстве случаев и длится совсем недолго — в этой среде очень много ранних смертей.
Наверное, все-таки есть какой-то высший смысл в том, что на русской почве принципы либерализма смогли так идеально воплотить только... современные беспризорники!
«Мой отец был очень мягким человеком»
Шли мы как-то мимо Дома литераторов и вдруг видим на дверях афишу, из которой явствует, что Дворянское собрание, Общество дворянской молодежи, Русский императорский театр намерены устроить торжественный вечер, посвященный вступлению в возраст престолонаследия цесаревича Георгия, и приглашают туда всех желающих.
Ну что тут, казалось бы, особенного? Мало ли какие сюжеты мелькают в этой новой игровой реальности, которую некоторые наши интеллектуалы величают постисторической! Тем более что разговоры о восстановлении монархии ведутся в печати уже не первый год.
Почему же мы вздрогнули и, будто не поверив собственным глазам, перечитали афишу вслух? А потом переглянулись и одновременно выдохнули: «Это будет конец».
— Почему же конец?! — удивился наш приятель.— Это не повод для паники: как раз я вижу в восстановлении монархии хоть какую-то надежду на перемены.
Большинство друзей, правда, вообще не удостоило наше сообщение сколь-нибудь серьезным ответом. Дескать, о чем тут говорить? Очередной маразм власти...
Но, на наш взгляд, все же имеет смысл порассуждать о последствиях этого шага. Потому что он, конечно же, не очередной, то есть не заурядный. И наверняка в нынешней тупиковой ситуации может быть предпринят.
Мы не будем вдаваться в политические подробности и обсуждать, кто истинный наследник, а кто самозванец. Нас вопрос монархии применительно к сегодняшней России интересует в принципе: чем это чревато в культурном и психологическом плане. И прежде всего для детей и подростков.
Кому из взрослых людей незнакомо желание в один прекрасный день бросить все и начать жизнь с начала, с чистого листа? Картины, которые они мысленно рисуют при этом, как правило, по-детски романтичные. Даже лубочно-сказочные. И немудрено, ведь при психических травмах (а ощущение, что жизнь зашла в тупик, естественно, травмирует) нередко наблюдается эмоциональный регресс, люди отчасти впадают в детство. И чем меньше подкреплены картины будущего реальным опытом, тем они сказочней.
В нашей стране практически не осталось людей, живших при настоящей монархии. Поэтому образы, которые рисует фантазия наших сограждан при слове «царь», основываются не на реальных картинах, а скорее на чем-то вроде билибинских иллюстраций к русским сказкам. Этакая лепота и благообразие. А сказка, она всегда с хорошим концом... Да и потом в ней есть волшебство, а это так созвучно вечному русскому ожиданию чуда!
Ну а поскольку в массе своей люди стали меньше читать серьезной литературы, получается, что им просто неоткуда почерпнуть правдивую информацию. Что там царь?! Уже и Распутин объявляется фигурой неоднозначной, а кто-то даже назвал его истинным патриотом, «оболганным врагами Отечества еще при его жизни», а все компрометирующие этого «патриота» документы квалифицировал как фальшивки.
Так что если часть общества вдруг отнесется «с пониманием» к реставрации монархии, то в этом, право, не будет ничего удивительного. А вот чтО будет, это уже другой вопрос.
Тут нас могут ожидать малоприятные сюрпризы.
Казалось бы, все понимают, что разрыв поколений не есть благо. И для народа, и для культуры. Сколько говорено, сколько написано о сломе всей жизни после революции, о том, как ужасно, когда дети ниспровергают авторитет отцов, а отцы смотрят на детей как на выродков! И как все в результате идет вразнос.
Теперь нам это предлагают повторить, причем нередко те же самые люди, которые вроде бы искренне скорбят о прерванной в октябре семнадцатого связи времен.
— В конце концов, что такое отрезок длиною в семьдесят лет? — рассуждают они.— Взять да и отрезать! И связать историческую нить, выбросив все ненужное на помойку.
И опять ненужными оказываются люди, сотни миллионов людей. Потому что если действительно здесь, как гласит чья-то широко растиражированная формула, «полстраны сидело в лагерях, а вторая половина их охраняла»,— такое лучше поскорее вытеснить из памяти и из истории как ночной кошмар. А главный вывод, который из этого следует, как ни прискорбно, заключается в том, что наши с вами предки — все поголовно! — были либо палачами, либо идиотами, тупо и покорно следовавшими за палачами. Ну да, лучшие люди были уничтожены или уехали в эмиграцию, генофонд невосполнимо оскудел, так что остались одни дегенераты!..
Думаете, мы будем сейчас «агитировать за Советскую власть», рассказывать о достижениях науки и культуры? Нет, не будем. Об этом и без нас многократно говорено. Мы лучше продолжим тему «отцов и детей». Сначала две цитаты:
«Я ношу его фамилию, и в моих жилах течет часть его крови. У нас с самого раннего детства было очень нормальное отношение к дедушке. И к прадедушке, и к прапрадедушке. И вообще к тому роду, который я представляю».
«Мой отец был очень мягким человеком... Столько написано о... его нетерпимости к чужому мнению, о грубости... Все это, заявляю откровенно, беспардонная ложь... Это по его настоянию... был наложен запрет на любое насилие над обвиняемыми... Не был мой отец тем страшным человеком, каким пытались его представить в глазах народа тогдашние вожди. Не был и не мог быть, потому что всегда отвергал любое насилие».
А теперь коротко об авторах.
Первая цитата взята из интервью правнука Сталина, а вторая — про мягкого человека, отвергавшего любое насилие,— из книги «Мой отец — Лаврентий Берия».
И не надо думать, что это единичные курьезы. Вспомните потоки мемуаров, хлынувшие со страниц журналов и газет в первые годы перестройки. Они пестрели фактами и событиями, но лейтмотив был один: «Мой отец (дед, прадед, муж, брат) невинен и чист, а все остальные виноваты». Ведь именно такие, на первый взгляд абсурдные, утверждения защищают психику от распада. Это только в кино выглядит очень эффектно, когда муляж дедушки выкапывают из могилы, опять закапывают, снова выкапывают, а в финале сбрасывают с обрыва в пропасть и кончают с собой. Дескать, пусть прервется род палачей!
С настоящим дедушкой всё гораздо сложнее. Если признать, что твой дед — палач, то, значит, кто ты сам? Потомок палача? И на тебе лежит страшное проклятие? И ты должен какими-то неслыханными подвигами, мученичеством искупать невинно пролитую кровь? И бояться поднять глаза на людей? И не знать, что сказать своему сыну о прадедушке?.. А если ты еще и узнаешь порой в себе дедушкины гены... Тогда надо в буквальном смысле слова стать Иваном, не помнящим родства, и отказаться от всего того, чем это родство снабжало. Нельзя чувствовать себя внуком палача и спокойно жить в его квартире, наследовать его дачу, пользоваться его связями при устройстве в институт или на работу. То есть, конечно, можно, но это породит такой внутренний конфликт, которого человек всеми силами постарается избежать. А как? «Отречься от старого мира» неимоверно трудно. Тем более что тебя связывает с дедушкой не только собственность, не только стартовая площадка карьеры, но и такая естественная, перекрывающая все резоны родственная любовь. И может быть, это и есть самое главное.
Ну а если все-таки обрубать связи с прошлым, то сделать это, не повредив ядро собственной личности, просто невозможно, что легко наблюдать на примере сектантов, порывающих связи с родными и, как правило, изменяющихся до неузнаваемости. (Даже термин такой есть — «измененные состояния психики».) И конечно, ярчайший пример — беспризорники. Причем не те, которые потеряли родителей волею обстоятельств, а те, кто ушел из семьи добровольно. Люди, занимающиеся проблемой беспризорности, утверждают, что таких «добровольцев» сейчас большинство. И что они кардинально отличаются от беспризорников времен Гражданской войны, так талантливо описанных Макаренко. Пожалуй, самая пугающая их особенность — это такая сильная аутизация, при которой ядро личности делается ускользающим, неуловимым. Причем настолько, что встает вопрос: а есть ли оно вообще, это ядро? Потому и ползет, рассыпается социальная ткань в этой среде. Не на что опереться, не за что зацепиться, непонятно, на чем выстраивать социальные отношения, что взять за основу серьезного неформального контакта.
Однако это крайности, а в большинстве случаев люди все-таки подсознательно стремятся защитить свою личность от разрушения и мобилизуют охранительные механизмы. Но поскольку утверждать, что никаких злодеяний не было, уже невозможно (ибо слишком много свидетельств) да и не нужно (ибо осуждение советской истории еще и соответствует сегодняшней конъюнктуре), оптимальный выход из положения — это резко развести историю и дедушку, сказав себе: «История преступна, дедушка невинен». А как это получилось? Да так и получилось: не знал, обманывали; хотел изменить, но не мог; хотел хорошего, но не успел; пробился на самый верх, чтобы расшатать систему изнутри и т. п.
Для индивидуальной психики это, конечно, защита, хотя и небезупречная, ибо такая позиция сужает интеллектуальный горизонт, запрещает человеку думать и сомневаться — короче, оглупляет. Но для общества и государства подобная самозащита смертельна. Это как раз и есть неестественное для нашей культуры навешивание на свои окна железного занавеса. Мало того, человек не просто отгораживается от мира! Он отождествляет этот мир (историю, народ, государство) со злом и не желает иметь с ним ничего общего. Чем больше таких «семейных портретов в интерьере», тем меньше опор у государства. Кому захочется служить злу, защищать зло?
Собственно говоря, все это уже произошло на наших глазах, когда распался Советский Союз, а никто и пальцем не пошевельнул, чтобы его защитить. И вполне может повториться, но теперь уже на уровне России.
В создавшейся ситуации нам только монархии не хватало! С кем будет отождествлять себя человек, втиснувшийся в рамки семейного портрета, если однажды в утренних новостях вдруг объявят монархию?
Правда, у нас сейчас столько дворян развелось, буквально у всех обнаружились дворянские корни... Слушаешь и недоумеваешь: так выбили дворян во время революции или приумножили их количество? И куда подевались крестьяне, рабочие и толпы пресловутых кухарок, ринувшихся в семнадцатом году управлять государством? Или они предвосхитили политику планирования семьи и, твердо придерживаясь «принципа ответственного родительства», решили не рожать в непростых социальных условиях, а благородные господа, будучи политически незрелыми, плодились, как кролики? А может... может, Россия вообще была не крестьянской, а дворянской страной? Да-да, нам же преподносили историю в искаженном виде! Вот и здесь, наверное, исказили...
Теряясь в самых фантастических догадках, мы наконец обратились к документам. Последнюю крупную перепись в дореволюционной России проводили чуть больше ста лет назад, в 1897 году. В «Таблице распределения населения по сословиям и состояниям» (приведено в справочнике «Россия 1913 г.». СПб., 1995) читаем:
«Дворян потомственных — 1 221 939 чел. (0,97%), дворян личных и чиновников с семьями — 631 245 чел. (0,5%), духовенства христианских исповеданий с семьями — 587 023 чел.(0,4%), потомственных и личных почетных граждан с семьями — 343 111 чел. (0,27%), купцов с семьями — 281 271 чел. (0,22%) (это к вопросу о мощи и многочисленности купеческого сословия в предреволюционной России! — Авт.), мещан (к которым относились в те времена и рабочие, и ремесленники, и приказчики в лавках, и прочая обслуга.— Авт.) — 13 391 701 чел. (10,66%), крестьян — 96 923 181 чел. (77,12%), инородцев — 8 297 965 чел. (6,6%)».
К 1913 году население России увеличилось примерно на 33,5 млн человек. Но отнюдь не за счет дворян! Весь правящий класс, в который входили и помещики, и буржуазия, и высшие чины, увеличился всего лишь на 0,1%.
Так что отождествлять себя с дворянами, конечно, можно. Но только в философском смысле: дескать, все люди — братья, все от Адама и Евы.
А в реальности не нужно долго докапываться до генеалогических корней, чтобы убедиться в очевидном: подавляющее большинство наших граждан, в том числе и правящая элита, происходит из крестьян.
Но может, это хотя бы богатые крестьяне, которые со временем, если бы не октябрьские беспорядки, стали помещиками?
Снова обратимся к «сухим цифирям»...
По данным 1913 года, из 109 млн крестьян бедняков было 66%, середняков — 20% и, соответственно, кулаков — 14%. А в результате коллективизации число последних не только не возросло, но и резко сократилось.
В «Записках» крупного царедворца Е.Ф. Комаровского нарисована сцена патриотического подъема, охватившего московское дворянство при встрече с императором Александром I. Когда он призвал дворян оказать сопротивление Наполеону, «все зало огласилось словами: “Готовы умереть скорее, государь, нежели покориться врагу! Все, что мы имеем (выделено нами.— Авт.), отдаем тебе: на первый случай десятого человека со ста душ крестьян наших на службу”. Все бывшие в зале не могли воздержаться от слез. Государь сам был чрезмерно тронут и добавил: “Я много ожидал от московского дворянства, но оно превзошло мои ожидания”».
Нашим читателями, у которых эта сцена, вполне возможно, и сегодня вызывает умиление, хорошо бы иметь в виду, что их предков в зале Слободского дворца, скорее всего, не было. Они с гораздо большей вероятностью могли оказаться среди тех, кем так щедро распорядилось патриотичное дворянство. Будто это не живые люди, а часть состояния, ничуть не более одушевленная (хоть их и называли «души»), чем пашни, лес, домовые постройки, фамильное серебро.
А через сто с лишним лет, в 1938 году, И.А. Бунин в знаменитом рассказе «Темные аллеи», описывая встречу своего героя с некогда страстно любимой женщиной «из простых», заключает этот рассказ очень характерными словами: «“Да, пеняй на себя! Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные! «Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи...». Но Боже мой, что же было бы дальше? Что если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей!”. И, закрывая глаза, качал головой...».
Сегодняшние читатели Бунина, восхищаясь этим поистине гениальным произведением и ностальгируя по «России, которую мы потеряли», все же не должны забывать, что прообразом героини, которую барин Николай Алексеевич соблазнил в тринадцать лет, а потом, как и было принято в то время в том кругу, бросил, вполне могла послужить его прабабушка. Это, конечно, не значит, что нужно проникнуться классовой ненавистью к большому писателю, но забывать, «откуда ноги растут», глупо и подло. «Если вы забыли, чьи вы дети, я вам напомню»,— говорила одна учительница своим расшалившимся ученикам. Вот так и нам сама жизнь быстро напомнит о наших корнях. Как уже напомнила многие печальные уроки истории. Но чем все же психологически чревата для нас реставрация монархии? Даже если она и будет, то, как уверяют многие, только чистым символом, декорацией. (Хотя в этом случае уж тем более нелепо так рисковать!)
Прежде всего это чревато усилением социальной шизофрении. И так-то трудно уместить в одной голове папу-банкира, дедушку-партийца, прадедушку — стойкого «солдата революции» и прапрадедушку — просто солдата, которого — цитируем по Куприну — «унтер-офицеры жестоко били... за ничтожную ошибку, за потерянную ногу при маршировке,— били в кровь, выбивали зубы, разбивали ударами по уху барабанные перепонки, валили кулаками на землю». Или не солдата, а рабочего. Или портного из местечка в черте оседлости... Сочетать все это с романтическими образами царя и господ-офицеров можно было только в бесклассовом обществе, которое худо ли, бедно ли, но сложилось у нас после войны. Теперь эта роскошь будет нам недоступна.
Пока, правда, еще действует инерция,— видно, слишком сильна была эгалитарная советская прививка. Даже у людей, которые любят порассуждать о естественности неравенства и о том, как, в сущности, хорошо, когда человек по праву своего происхождения возвышается над другими,— даже у них за этими рассуждениями не возникают реальные, зримые образы. Но они очень быстро появятся. Как сейчас уже для многих, населяющих постсоветское пространство, за словами «гражданская война» стоят не только образы любимых актеров, но и лица своих убитых детей.
Особенно полезно подготовиться к восприятию слова «реванш». А то вчерашних комсомольцев, которые любили петь в стройотряде у костра про поручика Голицына и корнета Оболенского, могут ждать неприятные сюрпризы при встрече с героями песен. Точнее, с их потомками, которые, вполне возможно, захотят вернуться в Россию и занять подобающее их происхождению место в иерархической структуре. А учитывая, что в дворянской среде принято чтить предков и что многие из этих предков (хотя и не все), работая в эмиграции таксистами и официантами, не считали такую судьбу справедливым возмездием, вернувшиеся потомки, немного освоившись, начнут восстанавливать свою истинную, по их представлениям, справедливость и захотят посчитаться с потомками «отъевшегося хамья» (выражение З. Гиппиус).
И если наши политические актеры, похоже, немного заигравшиеся во всероссийском балагане, самоуверенно рассчитывают, что купленный графский титул послужит им надежной индульгенцией на все времена, то, несомненно, их ждет глубокое разочарование. Сей расчет наивен. То будет лишь первый акт представления. Новые спасители России не пожелают сидеть в одной лодке с внуками сотрудников ГУЛАГа: им не позволит это сделать та самая дворянская честь, о которой они получали представление не из советских песен.
Из пепла возгорится пламя
Шизофренический раскол сознания — вещь мучительная. Человек не в состоянии примирить непримиримое, и либо раскол перерастает в распад, либо (если это, конечно, не настоящая болезнь) люди отсекают и отбрасывают за борт сознания все то, что мешает им жить.
Так, в советское время многие вытесняли из сознания мысли о лагерях, а теперь вытесняют воспоминания о погибших во время октябрьского расстрела 1993 года, во время «странной» чеченской войны и того, что так умиротворяюще-лукаво называлось «локальными конфликтами». (Типичная манипуляция сознанием: война — это нечто запредельно страшное и из ряда вон выходящее, а конфликты — дело житейское, обыкновенное; да и слово «локальный» очень успокаивает: «локальный» значит «местный»,— следовательно, конфликт маленький, ограниченный, тебя не затронет, спи спокойно.)
И в общем-то желание вытеснить из памяти советскую историю вполне понятно. Слишком много там трагического, а значит, принципиально непримиримого. Ну а как в данном случае легче всего снять трагическую неразрешимость? — Нужно объявить всех жертвами системы.
Пожалуй, выразительнее, чем сын Берии, об этом не скажешь:
«У правящей верхушки не было никогда и не могло быть каких-либо доказательств вины отца, а скомпрометировать его в глазах народа было крайне необходимо... Мой же рассказ об отце — лишь штрихи к портрету человека, который честно делал свое дело, был настоящим гражданином, хорошим сыном и хорошим отцом, любящим мужем и верным другом. Я, как и люди, знавшие его многие годы, никогда не мог смириться с утверждениями официальной пропаганды о моем отце, хотя и понимал, что ждать другого от Системы, в основе которой ложь,— по меньшей мере наивно».
Если уж для такого легендарного злодея находятся оправдания, то что говорить о других, действительно «без вины виноватых», о тех, кто сам никого не погубил, о людях, далеких от аппарата власти и от политики?! В определенном смысле их потомки находятся в лучшем положении: они могут обойтись без шизофренического раздвоения при взгляде на прошлое. У них на самом деле дедушка был хороший — хороший врач, хороший инженер, хороший агроном и вообще хороший.
Поэтому соблазн объявить жертвами всех и таким образом снять со всех ответственность вполне объясним. Кому-то даже может показаться, что это почва для примирения и объединения. Раз все жертвы, никто никому не должен мстить, а виновата пагубная коммунистическая идея. Вот только суд над коммунизмом устроим, приговорим его к смерти на веки вечные — и заживем!
Но давайте посмотрим на ситуацию глазами сегодняшних детей. Как они будут относиться к взрослым, которых им представляют в виде коллективной жертвы? И жертвы отнюдь не героической — это бы, наоборот, возвысило авторитет предков,— а какой-то ужасающе бессмысленной. Когда несколько поколений неизвестно за что положило свою жизнь, это свидетельствует уж во всяком случае не в пользу их интеллекта. «Страна дураков», да и только! Но если для взрослых людей подобные сентенции являются частью сложнейшего комплекса, который замешан не только на самоуничижении, но и на самовозвеличивании (ибо Иван-дурак по канонам русской мифологии и есть самый умный), то для ребенка, еще не успевшего освоить этот архетипический русский образ во всей его полноте, «дурак» звучит вполне однозначно: быть дураком стыдно. Не случайно это самое первое ругательство, которое усваивают наши дети.
Конечно, в мире нет народа, который не ценил бы ум, но для нашей культуры это чуть ли не самый главный приоритет. Базовая ценность, как теперь принято выражаться.
Изобразив целый народ скопищем облапошенных дураков (а как еще квалифицировать многомиллионные бессмысленные жертвы?), детей ставят в совершенно несвойственное и непосильное для их возраста положение: они должны либо презирать своих дедов и прадедов, либо, в лучшем случае, их жалеть.
О каком авторитете старших может после этого идти речь? И о каком уважении к законам, которые эти старшие создавали? А если вспомнить, что традиционная русская культура не внушает нам священного трепета перед законом, то как, спрашивается, вы в условиях демократии заставите «непуганое» и своевольное поколение втиснуться в рамки правового государства?
И сколько бы ни создавалось комиссий по борьбе с преступностью, сколько бы средств ни вкладывалось в оснащение нашей милиции новейшей техникой, все будет уходить в песок, пока мы не признаем, что падение авторитета взрослых — в том числе и в исторической перспективе (!) — главная причина роста подростково-юношеской преступности. Точно так же, как главная причина быстрого распространения сифилиса среди подростков — это вовсе не сексуальная непросвещенность, не отсутствие презервативов, а падение нравов, непросвещенность души. Что, кстати, тоже непосредственно связано с утратой многими взрослыми права на роль наставников.
Действительно, разве может серьезно претендовать на наставничество известный писатель, который, выступая перед старшеклассниками, истерически восклицает:
— Мы так виноваты перед вами! Мы вам страшно лгали. Лгали безбожно! Лгали всю жизнь!
Обратите внимание на это «мы». Даже в момент покаяния он снова лжет. Ему не хватает честности сказать: «Я лгал». Писателю эта ложь, конечно, «во спасение», но юным слушателям, сидящим в зале,— во вред. Ибо для них его «мы» значит «все». Все взрослые люди.
И сколько подобного слышали наши дети за последнее десятилетие!..
«Совки», «манкурты», «шариковы и швондеры»... Ну, скажите на милость, кому захочется быть детьми таких отцов?
— Да, но отцы-то как раз порвали с тоталитарным прошлым,— возразите вы,— и теперь идут тернистой, конечно, дорогой, но зато к...
Да-да, можно не продолжать. «Старая погудка», как выражался Владимир Ильич. Опять — через тернии к звездам. Но дело даже не в этом. В конце концов, модель вполне традиционная. Только «звезды» какие-то очень тусклые.
Если наши деды и прадеды погибали за то, чтобы вчерашние фарцовщики и цековские холуи все больше жирели на оголтелом воровстве и ратовали за добровольную стерилизацию маргиналов, которые роются в помойных баках, и чтобы все это вместе называлось свободой, тогда, конечно, все жертвы были напрасны. За такое не стоило класть живот.
И отцов, которые дали на это добро и до сих пор, когда все уже ясно даже слепому, не стыдятся именовать беспредельное зло «издержками»,— таких отцов дети вправе обозвать не только идиотами, но и подлецами.
Новые «зияющие высоты» и новые принципы («мир дворцам, война хижинам») обессмысливают не только советский период нашей истории, но и всю русскую культуру.
Трудно заподозрить архиепископа Сан-Францисского Иоанна, урожденного князя Дмитрия Шаховского, долгие годы выступавшего по «Голосу Америки», в симпатиях к революции, но даже он писал: «В эмиграции потом я встречался со многими лицами как дореволюционной, так и февральской России. Все они были жертвами, но, как я замечал с горечью, не все принимали на себя нравственную ответственность за все происшедшее и еще реже доходили до сознания своей вины перед Богом и пред своим народом».
А в его же «Поэме о русской любви» есть такое признание:
Мы все грешили в старые года
Сословною корыстью, равнодушьем
К простым, живущим в этом мире душам.
Мы помогали братьям не всегда!
И вот стекла дворянская вода,
Изъездив облака, моря и сушу,
Я понимаю, что случилось тут,—
Благословен великий Божий Суд.
Несмотря на то что в конце приведенной строфы нет восклицательного знака, она воспринимается как скорбно-торжественное восклицание. Более того, последняя строка по сути катарсическая: понимая вину своего сословия, автор не сетует по поводу бессмысленного народного бунта, а признает высший смысл случившегося и даже благословляет справедливое возмездие. Вот традиционный русский подход к теме «униженных и оскорбленных». И, ставя крест на нем, мы ставим крест на всей русской культуре.
Однако революция очень быстро перешла в стадию пожирания своих детей, и именно с этим все мы до сих пор не можем справиться и примириться. Шарахаемся из стороны в сторону, проклинаем и славословим, ссоримся друг с другом и все доказываем, доказываем, доказываем... что? Что никакой справедливости на этом свете нет и быть не может? Что миром всегда правили и будут править подонки и это нормально? И что неотмщенные жертвы должны спокойно взирать на оставшихся у власти палачей, которые плодят новые жертвы?
Так не будет.
Эти постыдные обывательские штампы на фоне множащихся жертвоприношений только распаляют очистительный огонь. Суд — он уже идет. Криминализация общества — это, по большому счету, месть истории за ГУЛАГ. Отсроченная, конечно, ибо история сначала дает возможность отомстить людям, а не дождавшись, мстит сама. В том числе и за трусость. Нарушая законы природы, пламя возгорается из пепла. Из пепла Клааса, так и не достучавшегося до оглохших сердец.
Итоги предательства. Истоки надежды
Когда думаешь о сегодняшнем массовом одворянивании, на ум приходит известная поговорка, только в несколько измененном виде: «Все это было бы смешно, когда бы не было так гнусно». Гнусно, во-первых, потому, что отождествление идет по самым дешевым, недостойным подражания признакам: копируются дворцы и особняки с их роскошными интерьерами, любовь к гольфу и верховой езде, светская суета, тяга ко всему с наклейкой «элитарное», высокомерное пренебрежение к тем, кто не «свой круг», и прочая дребедень. При этом лучшему, что было во дворянстве,— преданности Отечеству и готовности жертвовать собой ради него — никто подражать не собирается. «Болонка» — существо изнеженное, комнатное. Ее даже псом не назовешь — только собачкой. Вспомните хрестоматийный пример с генералом Раевским, который бросился в атаку, увлекая за собой двух юных сыновей. Кто из сегодняшней элиты способен на такую жертву? Если подобное и возможно, то лишь как исключительный, единичный случай… Ну а во-вторых, массовое «хождение во дворяне» гнусно потому, что это самое натуральное предательство. Предательство своих предков, тех страданий, которые пришлось пережить людям, связанным с нами узами родства. О многом, наверное, думали наши деды и прадеды, но даже в страшном сне им не могло присниться, что потомки так легко отрекутся от них и будут набиваться в родные к их притеснителям. Вот для кого, а не для народа вообще актуален разговор про гены рабства! Ладно бы при Сталине отрекались (хотя и тогда не все это делали), но сейчас-то уж никто пистолет у виска не держит.
Да, есть роковая закономерность в том, что тема предательства постепенно становится ведущей темой нашей жизни. Это как не отданный вовремя долг, который все обрастает и обрастает процентами.
Разоблачение культа на XX съезде... разве это было возмездие? Раз уж мы об этом заговорили, то невозможно не процитировать стихотворение «Амнистия» поэта-эмигранта второй волны И. Елагина:
Еще жив человек, расстрелявший отца моего
летом в Киеве, в тридцать восьмом.
Вероятно, на пенсию вышел. Живет на покое
и дело привычное бросил. Ну а если он умер,
наверное, жив человек, что пред самым
расстрелом
толстою проволокою закручивал руки отцу
моему за спиной.
Верно, тоже на пенсию вышел. А если он умер,
то, наверное, жив человек, что пытал
на допросах отца.
Этот, верно, на очень хорошую пенсию вышел.
Может быть, конвоир еще жив, что отца
выводил на расстрел.
Если б я захотел, я на родину мог бы вернуться.
Я слышал, что все эти люди простили меня.
А ведь именно тогда, в эпоху XX съезда, была, как нам кажется, упущена уникальная возможность разомкнуть цепь предательств, не порвав при этом связи времен: наказать палачей, то есть восстановить справедливость и обрести свободу. И палачей, кстати, было не так уж и много. Их никогда не бывает много, но чтобы уйти от личной ответственности, они старательно внушают людям, что таких, как они, полстраны. Если вы помните, этот мотив назойливо звучал в начале перестройки, заменившись затем, когда номенклатура сожгла партбилеты, не менее назойливым мотивом суда над коммунизмом. Вина таким образом была окончательно деперсонализирована: никто якобы не виноват, а виновата идея.
Но, увы, сколько ни перекрашивайся, ни маскируйся, ни меняй вывески, флаги и гербы, а вина никуда не девается. Это понятие метафизическое. Ее невозможно избыть с помощью дикарских ритуалов. Власть подобна леди Макбет, которая с маниакальным упорством моет руки. А пятна крови никак не смываются, и на старую кровь налипает новая, свежая. И снова палачи милостиво прощают своих жертв (яркий тому пример — амнистия 1993 года, когда посмертно «простили» безоружных людей, расстрелянных из танков). И так будет всегда, пока не разомкнется порочный круг!
Причем преступления будут не только множиться, но и становиться все более запредельными по своему размаху и бессмысленности. И, соответственно, предательство будет все ближе подходить к той финальной черте, за которой уже нет ничего. В буквальном смысле этого слова.
Как быстро все произошло! Сначала «сдали» людей, живущих в республиках. Всего через три-четыре года после армянского землетрясения, сотрясшего всю страну и вызвавшего массовое участие в судьбах пострадавших, граждане независимой России безучастно смотрели, как их недавние соотечественники убивают друг друга, не щадя даже грудных детей. И все это под бесстыжие камлания про «слезинку ребенка»!
Внутреннее отчуждение было молниеносным. Как будто мы не учились с этими людьми в институтах, не дружили, не переписывались, не объяснялись в любви — кто Армении, кто Грузии, кто горам Тянь-Шаня и Памира... Как будто не осталось у нас в брошенных на произвол судьбы республиках родственников или знакомых.
Потом настал черед русского Кавказа. И коренных кавказцев, и тех, кого принято теперь называть «русскоязычными». В разгар чеченской войны по ОРТ прошел фильм про людей, которых после прихода Дудаева к власти за их нечеченское происхождение выгнали на улицу. Кто-то из этих людей на момент съемки уже два года(!) жил в мусорном баке. Фильм видели сотни тысяч зрителей. Реакция была нулевой. В лучшем случае можно было услышать: «Конечно, ужасно, но что делать? Сталин же выслал чеченцев, вот они и мстят...». И разговор поспешно переводился на другую тему.
Далее на очереди оказалась провинция. Рассказываешь какому-нибудь вполне приличному человеку, что в деревнях уже позабыли, как выглядят деньги, а он в ответ: «Не знаю... Я лично давно из Москвы не выезжал, а в Москве живут неплохо. Грех жаловаться. Я привык верить тому, что вижу своими глазами». А следующим тактом заводится шарманка про то, как при Сталине колхозники работали за трудодни и еще у них не было паспортов. (Будто матери, которая вынуждена кормить своих детей комбикормом, от этих исторических справок станет легче!)
Круг тем, трогавших за живое, стремительно сужался. И на любые доводы находились контраргументы. Старики вынуждены сигаретами и водкой торговать? — Ничего страшного! А так бы бездельничали, лясы точили, сидя на лавочках. Некоторые старикашки, между прочим, еще очень даже шустрые. И пенсию получают, и подрабатывают. А в транспорте ездят бесплатно! С какой такой стати? Это несправедливо. Нас надо пожалеть, а не их... Институты научно-исследовательские бездействуют? — И правильно! Нам не нужно столько ученых. Настоящих-то среди них — кот наплакал, а остальные — дармоеды. Писатели продают газеты в электричках? — Иначе и быть не может. В нормальных странах даже нобелевские лауреаты не живут на гонорары…
Мы не станем утомлять вас перечислением остальных профессий, а лишь отметим, что на нынешний момент, похоже, не осталось такой категории людей, которую не готов сдать, отбрехиваясь дежурно-либеральными фразами, московский обыватель. И сдает он уже не только взрослых, но и детей. И не только чужих (например, в среде штатных правозащитников можно услышать, что борьба с детской беспризорностью — вопрос дискуссионный, так как у ребенка есть... право ночевать на улице!), но и своих. Потому что когда в стране ежегодно пропадает около двадцати тысяч детей, то это может коснуться каждого. И отмена бесплатного здравоохранения коснется каждого. И приход в школы старых педофилов, которые будут заниматься с детьми «снятием стыда»,— это тоже затронет каждого. Добавьте сюда помолодевшую уличную преступность, наркоманию, моду на терроризм, пугающий рост заболеваний туберкулезом, сифилисом, неврозами — и вы получите такое мелкое сито, через которое уже трудно будет просочиться. Не одно, так другое; не там, так здесь; не сегодня, так завтра... Большинство, конечно, старается не додумывать этого до конца — слишком страшно! — но опасность никуда не уходит от того, что люди закрывают глаза.
А чего все-таки наш либерал не готов лишиться? И есть ли оно вообще, это заветное, за что он не пожалеет живота своего? Может, ему, как и положено истинному либералу, больше всего на свете дорога свобода слова? Да нет, не похоже. Во время предвыборной президентской кампании ею благополучно поступились и нисколько не стеснялись утверждать, что политическая цензура в такой ответственный момент просто необходима. Да и теперь нисколько не страдают, читая газеты, про которые давно известно, что это рупор определенных финансовых группировок и никакой настоящей свободой слова там и не пахнет. А журналисты без тени возмущения заявляют: «Нет, у нас такая резкая статья не пройдет. Главный ни за что не пропустит». И до чего же старая, до тошноты знакомая интонация: дескать, зачем лукавить, мы с вами взрослые люди, все понимаем!.. Так что, условно говоря, без Солженицына наш либерал может и обойтись. Конечно, скрепя сердце, но в крайнем случае он на это пойдет. Остаются свободный выезд за границу и «мир еды» (название одного московского магазина)... Да, пожалуй, это оно. Свобода колбасы. Тот вид свободы, которую в Москве отменять опасно. Вот круг и сузился до ярко-розового кружочка датского сервелата. Какая-то зоология получается... Хотя почему зоология? Животные берегут своих детенышей, а если надо, то и гибнут, защищая их от хищников. Поэтому сравнение с животными в данном случае оскорбительно для братьев наших меньших. Нет, здесь не просто деградация, не просто регресс, а серьезная порча! Ведь когда в угоду тактическим интересам (разнообразно покушать, купить новую вещь, отдохнуть на Кипре) регулярно приносятся в жертву стратегические (государство, культура, будущее детей), можно заподозрить, что инстинкт самосохранения поврежден.
Быть предателем не только стыдно, но и нецелесообразно. Это быстро приводит к иссяканию рода, прекращению жизни. Чувство стыда за предков пробуждает в потомках разрушительные инстинкты: им бессознательно хочется вытравить память о позоре и уничтожить пространство, на котором этот позор происходил. А главное, логика жизни рано или поздно вынуждает предателей самих намыливать себе веревку. Вот суть того, что произошло с либеральной интеллигенцией. Совершив серию предательств, которые условно можно было бы обозначить как «отречение от маленького человека», она закончила в далеком октябре 1993 года призывом к его расстрелу. И закончилась на этом сама. Закончилась в качестве властительницы дум, то есть утратила свою роль. Разумеется, по привычке она еще время от времени выходит на сцену, но играет уже в пустом зале.
Сходная судьба ждет и учителей, если они не опомнятся и будут по-прежнему лепетать про свою беспомощность, а то и про принципиальное невмешательство в политику. Дескать, зачем нам лезть не в свое дело? как наверху решат, так мы и будем учить. Хотя если все будет так, как решат наверху, то очень скоро им учить станет просто некого. И, соответственно, они станут никому не нужны.
Да и остальным пора бы очнуться от предательской спячки. Потому что, когда на фоне такого демографического спада в больших количествах закупается оборудование и расширяются показания для мужской и женской стерилизации, это действительно «пахнет» концом. И вполне реальным, а не маскарадно-баркашовским фашизмом.
Но, слава Богу, далеко не все готовы утешаться иронической формулой, которую любит повторять один наш знакомый: «Скажите спасибо, что по утрам не пытают». И людей, которые исповедуют иные жизненные принципы и стремятся к другим идеалам, становится все больше и больше. Они не хотят говорить «спасибо» временно подобревшим палачам и не желают выбирать между «болонками» и «волками». А главное, уже начинают понимать, что само не рассосется. Они очень разные, эти люди, и во вчерашней жизни могли никогда не соприкасаться, принадлежа к различным кругам, порой просто далеким, а порой и враждебным. В те, уже почти легендарные, времена люди гораздо чаще, как нам кажется, сходились и отчуждались по довольно второстепенным, не сущностным признакам: цеховым, вкусовым, характерологическим. Конечно, и по политическим тоже, но это было, как показала жизнь, поверхностно и держалось на немногочисленных паролях: «Совдепия», «Самиздат», «Архипелаг ГУЛАГ»...
Сейчас, когда обнажились глубинные пласты жизни, обнажилась и человеческая сущность. Пароли и оболочки обветшали, зато высветилась основа для новой, подлинной, более содержательной общности. Что это за основа? Наверное, точнее всего она определяется выражением И. Ильина «совестная впечатлительность». Это не значит, что у остальных нет совести. Она есть почти у всех, но не у всех выступает в качестве доминанты. В брежневские времена совестная впечатлительность не позволяла людям молчать про лагеря, а сейчас не позволяет эксплуатировать трагедию ГУЛАГа, используя ее как кляп, которым затыкают рот собеседнику, едва он заикнется про преступления сегодняшней власти.
И, наверное, не случайно в сформировавшейся постсоветской общности так много женщин. Ведь у них более чуткая, более отзывчивая душа. Это, по выражению генетиков, «признак, сцепленный с полом». Да и охрана детства — женское дело. Тут даже трусиха может превратиться в львицу. Так что приход женщин в реальную политику сулит «гражданам из семейства собачьих» много неожиданностей.
Но, пожалуй, самое неожиданное и интересное в данном контексте — это роль Церкви. Неожиданное потому, что власть, конечно, ничего подобного не замышляла. «Болонки» были уверены, что они всего лишь сменили декорации. «Велика важность,— рассуждали они,— вместо красных знамен — хоругви! Какая разница, где постоять: на трибуне Мавзолея 7 Ноября или в Елоховском соборе на Пасху?». Будучи циниками, они и предположить не могли, что религия кем-то будет воспринята всерьез. И теперь простить себе не могут такого прокола, пытаются рассуждать про фундаментализм (неудачная, кстати, манипуляция — слово «фундаментализм» для нас заряжено положительно, ибо фундамент — это основа, а в России любят все основательное, прочное, серьезное), но вступать в открытый конфликт с Церковью не решаются, видя ее растущий авторитет. В последние годы в Церковь пришло много священников из интеллигенции. И молодых, и среднего возраста. Они совсем не похожи на тот карикатурный образ толстопузого попа, который усиленно внедрялся в сознание не один десяток лет. Они, эти новые священники, прежде всего очень разные (хочется даже воспользоваться литературоведческим клише и сказать «целая галерея образов»). Но вот что, пожалуй, их объединяет: на фоне массовой дисгармонии они воплощают собой норму.
Сейчас почти ни в ком не увидишь такого гармонического сочетания традиционности и современности. А ведь именно это дает в наши дни возможность найти общий язык с большим количеством людей!
Мы уже много раз говорили о парадоксах. Вот один из самых удивительных: революционность обычно ассоциируется с авангардными и даже ультраавангардными новациями в культуре. Однако в начале третьего тысячелетия после Рождества Христова прогресс превратился в свою противоположность и грозит нам чудовищной деградацией. А парадокс заключается в том, что в этих условиях истинно авангардную, прогрессивную, а значит, жизнетворную роль начинают играть носители традиционной культуры. И в этом поле возникает пассионарный накал.
Мы много писали о «волках» и о «болонках». И, надеемся, убедительно показали, что для «болонок» настают последние времена. Деградировавшая, разложившаяся элита должна уйти. Пока этого не произойдет, жизнь в нашей стране будет отравлена трупным ядом. Мы не настолько наивны, чтобы надеяться на добровольный уход властолюбивых чиновников с исторической сцены. Но под давлением крепнущих «волков» им придется это сделать.
И тут возникает вопрос: а что придется сделать нам? Неужели «с волками жить — по-волчьи выть»? Но зачем тогда рожать и воспитывать детей, отдавать их в лицеи, водить в музыкальные школы и художественные студии? Зачем растить их людьми, если востребован будет зверь?
Чтобы ответить на это, зададим еще один вопрос: а может ли кто-то победить волков? И скажем: да! С волками может совладать человек, сила духа которого победит животную энергию хищников.
Вот уж действительно, «мы диалектику учили не по Гегелю»! Кому могло прийти в голову лет пятнадцать-двадцать назад, что русское духовенство станет пассионарным, а значит, по сути, революционным классом? Вспомните, ктО посещал церкви в советское время. Казалось, вымрут набожные полудеревенские старухи, и храмы опустеют безвозвратно. Если уж в тех странах, где не было никаких гонений на религию, осталась одна оболочка, одна форма, то что говорить про нас!
Но когда культура жива, пассионарность как бы кочует, перемещается от одной группы к другой. Иссякла у рабочих, иссякла у либеральной интеллигенции — пробудилась у священников «последнего призыва» и у людей, не обязательно воцерковленных, но обязательно ощущающих себя частью традиционной русской культуры, не мыслящих без нее жизни и потому готовых ее защищать, как саму жизнь.
И даже если бы пассионариев была жалкая горстка (хотя это уже не так!), исход их борьбы с субпассионариями все равно был бы предрешен — потому они и пассионарии, что могут чуть ли не в одиночку свернуть горы. Пассионарных людей и не должно быть очень много — иначе быстро происходит перегрев и занимается пожар, в котором сгорают все, кто оказался поблизости. А перемещение пассионарного заряда в церковную среду радует нас еще и потому, что дает надежду на более или менее мирное развитие событий. Ведь в пассионарности священников нет агрессии, а есть сдержанная, спокойная сила, при встрече с которой «болонки» и даже «волки» — которых, кстати, вовсе не «тьмы, и тьмы, и тьмы», это очередной миф, созданный для устрашения обывателя! — поджимают хвосты.
Думаем, что оплевывание Церкви не прекратится, а будет нарастать, но приведет только к дальнейшей консолидации культурных людей. Вообще, пора перестать реагировать на наклейки, вывески, фальшивые приманки, однообразные жупелы. Пора повзрослеть и ориентироваться на суть, а не на оболочки. Взрослый человек не должен из подросткового упрямства сохранять верность своим кумирам. Идолопоклонство — признак незрелости. Вот и из свободы не стоит делать идола. Настоящее освобождение ощущаешь тогда, когда черное называешь черным, а белое — белым. И не пытаешься оправдать чужую подлость и собственную трусость.
Впрочем, русская культура все равно не позволит нам перепутать правду с кривдой.
«Смотри всегда на сердца сограждан. Если в них найдешь спокойствие и мир, тогда сказать можешь воистину: се блаженны».
Это радищевское поучение настигло нас через двести пятьдесят лет, когда мы, ничего не подозревая, рассеянно листали старую школьную хрестоматию. Казалось бы, миролюбиво-лапидарное, оно вдруг резко ударило в сердце, как предсмертный окрик, как посмертный приказ.
И тогда мы начали писать книгу.
«Белая книга» нового русского детства
Работая над этой книгой, мы не раз слышали просьбу, а то и требование «дать примеры».
— Поверьте, так будет убедительнее! — говорили наши сторонники.— Подчас один-единственный конкретный случай производит больше впечатления, чем десять страниц теории.
— И с чего вы все это взяли? — скептически хмурились уже не вымышленные, а вполне реальные оппоненты.— Факты! Где факты? Где человеческие судьбы, о которых вы столько рассуждаете, но всегда как-то абстрактно, умозрительно?
— За примерами дело не станет,— отвечали мы, но примеры упорно не желали вплетаться в ткань повествования. Может быть, потому, что за каждым из них не просто судьба, а трагедия или — в лучшем случае! — драма (что в детстве зачастую одно и то же), и нам подсознательно не хотелось сводить это к скупым строкам, которые часто в подобных «книжках с примерами» даже набирают петитом, чтобы выделить их дополнительность, а значит, второстепенность.
И очень скоро стало понятно, что нам придется написать вторую часть. Мы условно называли ее «Белой книгой», и название это так прижилось, что его сейчас не хочется менять. «Белых книг» на свете было уже много: после Холлокаста, Вьетнама, Чечни... Это будет «Белая книга» нового русского детства.
Причем мы намеренно оставляем в стороне великое множество совсем уж вопиющих случаев: не приводим биографии беспризорников, не пишем о тех, чье детство непоправимо исковеркала война, о детях, растущих в так называемых «зонах социального бедствия» и с малых лет обреченных видеть агонию, поскольку они и их близкие — это «балласт, который должен уйти». Так выразился о них еще накануне гайдаровских реформ один видный социолог, естественно, поддерживавший «шоковую терапию». Тогда, правда, еще мало кто понимал, чтО конкретно стоит за этими лихими словами и сколь трагично будет их осуществление в реальной жизни.
В нашей «Белой книге» вы не найдете ни малолетних воров, ни убийц, ни профессиональных проституток. Мы специально выбирали детей из достаточно благополучных семей и немаргинальных слоев, чтобы подчеркнуть, как же худо обстоят дела, если даже благополучие теперь выглядит у нас так.
По правде сказать, нам не пришлось напрягаться. Стоило только посмотреть вокруг — и материала оказалось более чем достаточно.
Впрочем, если кому-то покажется, что мало, он может продолжить эту книгу сам…
Вадик
Мы повидали на нашем веку много детей, но такой нам повстречался впервые. Умные, ясные, добрые глаза — и полная неуправляемость. Он не мог посидеть спокойно ни минуты, все время куда-то рвался, что-то хватал, успевал за секунду сломать и бросить, тут же тянулся за новым предметом и опять бросал...
Бабушка даже не пыталась его остановить. Не потому, что ей это нравилось. Нет, она вся покрылась пунцовыми пятнами от стыда, ведь перед ней были чужие люди. И не просто люди, а специалисты — их обычно поначалу даже больше стесняются.
— Вы не думайте, он не всегда такой был,— вполголоса сказала бабушка, косясь на Вадика, который уже побросал на пол все, что было можно, и явно тяготился отсутствием новых идей. — Просто два года назад у него родители погибли, и с тех пор он как бешеный...
Трудно сказать, что нас тогда насторожило: то ли еле заметная запинка при ответе на вопрос о причине гибели зятя и дочери, то ли непонятно откуда взявшиеся у ребенка, воспитываемого интеллигентной бабушкой, ухватки шпаны, то ли нечто еще более неуловимое, но оттого не менее реальное... Во всяком случае мы, не сговариваясь, предположили, что отец ребенка был «новым русским». Причем не из детей партработников, а self-made man («человек, который пробился в жизни самостоятельно» — англ.) перестроечного разлива: если и не настоящий бандит, то человек бандитской породы.
Про бандита мы, естественно, спрашивать не стали, а про «нового русского» спросили. Только употребили более нейтральное слово — «бизнесмен».
— Как вы догадались? — удивилась бабушка. — Ведь по нам с Вадиком сейчас не скажешь, что мы еще недавно не знали счета деньгам. Ничего не осталось, всё компаньоны забрали. Якобы за долги... На поминках били себя в грудь, обещали помогать, а сами... — она махнула рукой и вроде бы не к месту добавила: — Говорила я Вере, что не доведет эта жизнь до добра...
Ничего она особенного не сообщила, а у нас почему-то не осталось сомнений в том, что ее зятя и дочь убили...
Но предположить, что убийство было совершено на глазах у трехлетнего малыша, мы все-таки не могли. Слишком уж это выглядело мелодраматично, совсем как в кино.
Бог знает почему расстрелявшие машину убийцы пощадили ребенка. Может, впопыхах не обратили на него внимания, а может, не захотели брать лишний грех на душу. Тем более что они, судя по всему, достаточно хорошо знали это семейство.
После всего случившегося Вадик на полгода умолк, даже бабушка не могла из него выудить ни слова. Потом речь восстановилась, но зато поведение мальчика изменилось до неузнаваемости. И чем дальше, тем больше он походил на отца, храброго до безрассудства, отчаянно-своевольного, ни в чем не знавшего удержу и не сомневавшегося, что очень скоро целый мир будет у его ног. Разве это могло кончиться добром? Вадик еще и в школу не успел пойти, а бабушке уже мерещилась колония.
Да, но при всех этих страхах она вовсе не была уверена в том, что Вадика нужно окорачивать. Ведь сейчас такое время: чуть зазеваешься — затопчут.
— В наше-то время надо быть понахальней, понахрапистей. Из скромности шубу не сошьешь... — говорила эта скромная пожилая женщина.
И мы понимали, что она решает сложную проблему: что лучше — ребенок-зверь или ребенок-человек? С одной стороны, ее, конечно, волновала неуправляемость внука, а с другой — такими своими взглядами она фактически давала ему установку на агрессивное поведение.
— Жили мы, как в сказке... Если б не это несчастье...
Она явно не связывала одно с другим, ей не приходило в голову, что такой исход был трагическим, но естественным завершением криминального образа жизни. Просто не повезло...
Вы скажете: «А что, разве в советское время не было подобных случаев?».
Конечно, были, хотя вероятность их была ничтожна по сравнению с сегодняшней. И до Вадика, и после мы не раз сталкивались с детьми, осиротевшими в результате мафиозного убийства родителей. А уж слышали и читали об этом невесть сколько! Но суть все же в другом. В том, что махровый криминал раньше был в махрово-криминальной среде, то есть на своем законном (случайная игра слов) месте. При всех смягчающих обстоятельствах воровство в сознании подавляющего большинства людей было злом, наказуемым как судом, так и судьбой. Даже мама или теща вора понимала, что сын (зять) получил за дело. И старалась изо всех сил, чтобы внук не пошел по кривой дорожке. Конечно, их старания не всегда увенчивались успехом, но установка-то была — уберечь, удержать от греха. Знали, что ворованные деньги до добра не доведут.
Помните, как наставлял своего зятя Папанов из любимой народом комедии «Берегись автомобиля»?
— Тебя посадят, а ты не воруй!
Виталик
Недавно нам позвонил папа мальчика, с которым мы занимались несколько лет назад.
— Вы, конечно, нас не помните...
Родители наших бывших пациентов очень часто начинают разговор именно с этих слов. И бывает, в ответ мы мычим что-то неопределенное, но в данном случае прекрасно помнили, о ком идет речь. Крови он нам в свое время попортил много — мы тогда были неопытны и от его выходок впадали в тяжелый пессимизм.
Папу мы тоже отлично помнили. Выраженно-интеллигентный, начитанный, знающий массу посторонних для его профессии физика вещей, он вник в суть нашей работы с Виталиком так глубоко, как вникает не всякая мама. И этим нам очень помог. Через него мы смогли повлиять и на всю семью, так как Геннадий Аркадьевич пользовался авторитетом не только у жены, но и у тещи, что, согласитесь, бывает нечасто!
Может возникнуть вопрос: почему же он тогда без помощи специалистов не мог справиться со своим пятилетним сыном? Он просто не очень хотел, пока не понял, что дело зашло слишком далеко. Виталик был поздним, единственным, а потому обожаемым ребенком.
Да особенно и некогда было отцу всерьез заниматься воспитанием! Он заведовал отделом в солидном научном институте, много времени проводил в библиотеке, ездил в командировки — в общем, был в расцвете творческих сил. Даже понижение экономического статуса в научной среде его нисколько не пугало. Этот человек был мастер на все руки и быстро нашел себе надежный приработок: занялся ремонтом пишущих машинок. Его жена говорила об этом с гордостью.
После окончания занятий с Виталиком мы еще какое-то время перезванивались, и все у них шло благополучно. Поведение ребенка выровнялось, родители были довольны.
Однако встреча через пять лет вызвала у нас настоящее потрясение.
В кабинет вошли не просто сильно повзрослевший мальчик и немного постаревший мужчина. Перед нами стояли другие люди. Виталик, который был подвижным, как ртуть, превратился в тихое и будто покрытое ледяной коркой существо. Даже его огромные голубые глаза напоминали заиндевелые окна. А отец в свои пятьдесят пять лет выглядел стариком. Нет, он вовсе не был седым, беззубым и сгорбленным. Но он был каким-то потухшим и иссякшим.
Разговор начался с троек по математике, но нас не оставляло впечатление, что отец пришел не ради школьных проблем.
Догадка подтвердилась. Рассеянно выслушав наши советы, он заговорил о себе. Это был сплошной монолог, прерывавшийся его же раздраженными репликами в сторону двери, когда в нее просовывалась голова маявшегося в коридоре Виталика:
— Не мешай!.. Подожди!.. Оставь нас в покое!
Выяснилось, что он давно не работает в своем институте, да и институт тот уже полтора года как закрыли. Пишущие машинки теперь не в ходу, а специалистов по ремонту компьютеров и без него достаточно... Отношения с женой испортились настолько, что он хоть и живет с ней под одной крышей, но брак распался. Зато мальчишку видит. Правда, не каждый день. Почему не каждый? Да потому что после ночной работы приходится целый день отсыпаться. Проснешься к вечеру, а Виталику уже пора в постель. Ну, ничего, зато следующий день можно целиком посвятить сыну. Так что работа, в общем-то, удобная, грех жаловаться...
Произнеся последние слова, Геннадий Аркадьевич так сгорбился и опустил глаза, что у нас не хватило духу спросить, какая же это работа.
Но он после небольшой паузы прояснил ситуацию сам:
— Я в ночном казино работаю. Швейцаром. — А потом добавил совсем уже еле слышно: — Если б вы знали, как это унизительно... нет, не подавать им пальто... и даже не то, что они спьяну блюют по углам... К этому можно привыкнуть... Но чаевые — не могу!
— Папа! Пойдем домой! Я хочу домой! — неожиданно резко крикнул, распахнув дверь, Виталик.
И мы вдруг увидели его прежним. Только на ожившем лице было написано не капризное, стихийное своеволие, а вполне понятный протест. Он не желал, чтобы отец рассказывал кому-то о своем унижении.
Геннадий Аркадьевич понял это и начал торопливо прощаться. А в дверях, спохватившись, достал коробку конфет и сказал:
— Мы ведь на самом деле с 8 Марта вас хотели поздравить. А математика — это дело десятое. Не всем же быть Лобачевскими! Вот, попейте чаю... Мне сказали, хорошие... Пока что мы еще можем себе это позволить. Счастливо, рад был повидаться. Сынок, попрощайся!
Но тот ушел не простившись.
Коля
В прежней жизни Колин папа тоже был физиком. Правда, без степеней и чинов. И его институт не закрылся. Просто папа решил поменять работу. Жизнь «челнока», как он уверял жену, гораздо больше соответствовала его характеру, его природной общительности и, главное, свободолюбию.
— Теперь я сам себе хозяин! — хвастался он знакомым.— Сегодня торгую, завтра лечу за товаром в Китай, а послезавтра, если захочу, буду лежать на диване и плевать в потолок. Никто мне не указ! Деньги заработал — свободен!
Однако его жене в этих тирадах слышалась какая-то фальшь. Впрочем, она спешила себя успокоить: многим сейчас приходится перестраиваться. В конце концов, ничего страшного! Не уборные же он пошел мыть!
И даже когда он довольно часто стал приходить домой навеселе, она все равно старалась сохранить невозмутимость. Ну, выпил человек. С кем не бывает? Тем более что когда на холоде целый день стоишь — как тут не согреться.
Правда, однажды, после разговора с соседкой, которая сказала ей, что многие мужчины, ушедшие в уличную торговлю, незаметно спиваются, Марина попробовала осторожно поговорить с мужем: мол, не вернуться ли ему в институт. Обидно все-таки: высшее образование, да и диссертацию начал писать.
— Ты что?! Кому сейчас нужны диссертации? — отмахнулся муж.— О том, что было в «совке», позабудь навсегда. Встретил я вчера в метро нашего завлаба. Бомж — и тот лучше одет!
— Но не все же деньгами меряется,— робко возразила Марина.— Зато ему работать интересно. Интеллектуальный труд...
— Мне тоже интересно,— отрезал муж.— А про интеллектуальный труд ты кому-нибудь другому расскажи. Я-то знаю, сколько времени научные сотрудники проводят в курилке. Если на то пошло, у меня никогда еще не было такого простора для размышлений. Стоишь за прилавком, а голова-то свободна! Даже считать в уме не нужно — есть калькулятор.
Впрочем, плодов «свободного размышления» было что-то не видать. Скорее, наоборот, муж совсем перестал читать книги. Придя с работы, прилипал к телевизору. Часто даже засыпал с пультом в руках. И вообще, он заметно опростился, огрубел. В речи его появились агрессивные интонации, да и сами слова были из какого-то чужого мира: «кинуть», «баксы», «менты», «впарить».
Но Марина говорила себе, что это сейчас не главное. Главное — выживать. А на издержки надо поменьше обращать внимания. В поликлинике, где она работала участковым врачом, женщины только и жаловались, что денег хронически не хватает, что дети недополучают витаминов, не ездят летом отдыхать.
А у ее семилетнего Коли полно дорогих конструкторов, которые он обожает. И летом ему обещана поездка в Египет. «За то, что у ребенка счастливое детство, многое можно отдать»,— думала Марина.
Первый серьезный скандал разразился на Новый год, который они решили отмечать дома втроем. Коля был счастлив, что ему впервые позволили досидеть до двенадцати и с нетерпением ждал боя часов, чтобы по-взрослому чокнуться с родителями хрустальным бокалом.
...Боя курантов они не услышали, потому что отец со всего размаху запустил в экран бутылку шампанского. Телевизор чудом не взорвался, но работать, конечно, перестал.
Потом, как это часто бывает, уже трудно было вспомнить, из-за чего разгорелся сыр-бор, что послужило причиной психического взрыва. Коля только помнил, что решили проводить старый год, и отец сказал:
— Давай, Маришка, выпьем за то, чтобы ты встала наконец на рыночные рельсы.
Коля еще подумал: «Как это так? Мама же не поезд». (У него была игрушечная железная дорога со шлагбаумами и маленькими человечками.)
Мама своим ответом разрешила Колино недоумение.
— Нет, Сашенька, твои рыночные рельсы — это не для меня. Я люблю свою работу, понимаешь? — сказала она.
А папа ни с того ни с сего закричал:
— А я свою работу не любил, да? Я люблю шмотками торговать? Чистенькой хочешь остаться за мой счет?
Мама заплакала, а папа пульнул бутылкой в телевизор, сказал: «С Новым годом, дорогие товарищи!» — и ушел.
Есть примета: как встретили Новый год, таким и весь год будет. В данном случае примета сбылась в полной мере. Самое страшное было по утрам. Отец просыпался злой, придирался к какому-нибудь пустяку и начинал кричать, буквально во всем обвиняя жену и сына: в головной боли, в пропаже тапочек, в плохом качестве сметаны, поданной к сырникам.
Вечером же он приходил в состоянии какой-то опасной эйфории. Опасной потому, что она в любой момент могла обернуться агрессией. Пил он уже не время от времени и не по чуть-чуть, а стабильно и немалыми дозами.
Мыслил он теперь только штампами, говорил преимущественно лозунгами, и можно было, не заглядывая в газеты и не включая телевизор, легко догадаться, какую пропагандистскую кампанию разворачивает в данный момент власть. Повторяя, как заклинание, что он наконец стал свободной личностью, Александр все больше и больше утрачивал признаки личностной самостоятельности. Казалось, в его голову вмонтировали пульт, и чья-то невидимая рука периодически переключает кнопки.
Такое «расчеловечивание» вызывало у Марины почти мистический ужас, к которому поневоле примешивалось презрение.
А когда муж превозносил новую жизнь, она — опять же невольно — вспоминала прежнюю, в которой у него было ровное, хорошее настроение, хотя он практически не пил и уж тем более не напивался допьяна.
Но стоило ей об этом заикнуться (а она, естественно, не удерживалась), как разгорался скандал. За полгода муж перебил в доме почти всю посуду, высадил дверь в ванную, где она заперлась, спасаясь от его криков. Но самое страшное — он стал грубо оскорблять Колю: называл его выродком, недоноском, дармоедом.
Коля боялся высунуться из своей комнаты, но отец настигал его и там. Чаша Марининого терпения переполнилась, когда во время очередной безобразной сцены Коля незаметно выскользнул из дома, и его нашли только ночью на чердаке в соседнем подъезде. После этого Марина стала ночевать с сыном у подруг. Ей советовали обратиться в милицию, но она не могла преодолеть стыд. Да и опыт других людей подсказывал, что это бессмысленно: сейчас, когда такой разгул преступности, у милиции полным-полно более серьезных забот.
Кочевой образ жизни, понятное дело, плохо сочетался с регулярным приготовлением уроков. Коля нахватал двоек, возненавидел школу. У него нарушился сон, появились частые головные боли. Потом он несколько раз подряд проснулся в мокрой постели. Для восьмилетнего мальчика такое ЧП, да еще в гостях, было тяжелейшей психической травмой. С тех пор он наотрез отказался ночевать у чужих людей. Пришлось вернуться домой. Круг замкнулся.
Отец, поняв, что жена и сын никуда не денутся, совсем распоясался. Правда, изредка у него бывали просветы, но они, во-первых, длились недолго, а во-вторых, Колю теперь приступы отцовской любви пугали еще больше, чем приступы ненависти.
К девяти годам мальчик успел дважды побывать в психиатрической больнице, благо, Марина отыскала там своего бывшего однокурсника. Врачи делали все, что могли, и в общем-то приводили психику ребенка в относительный порядок, но он возвращался домой — и возвращались болезненные симптомы. Врачи ведь не могли поменять ему жизнь.
Может возникнуть вопрос: ну, и что же такого специфического, сегодняшнего в этой истории? Папа стал алкоголиком. Разве раньше такого не было?
Было, конечно, но, во-первых, в другой среде. (Напомним еще раз, что до своей «рыночной эпопеи» отец Коли вообще не пил и, скорее всего, не запил бы, если бы не выпал из привычной жизни, которая давала ему чувство подлинного, а не истерически нагнетаемого самоуважения.) И, во-вторых, раньше в подобной ситуации не было бы такой трагической безысходности. И квартиру можно было разменять без сумасшедшей доплаты. А главное, общество безоговорочно, порой даже излишне ретиво защищало женщину и ребенка. Она могла обратиться во множество разных инстанций — прежде всего на работу мужа — и нигде ей не посмели бы сказать: «Это ваши проблемы». Да и муж бы так не распустился — он же все-таки был не уличной шпаной, а интеллигентным человеком.
Конечно, такое грубое вторжение общества в частную жизнь сегодняшние правозащитники осудили бы, но у ребенка была бы здоровая психика, а значит, не исковерканная судьба.
Миша
Отец Миши был доволен жизнью «на все сто». Даже не обязательно было знать, что он владелец сети московских магазинов, что у него огромная квартира и небольшой загородный дворец, что он запросто может оставить в казино не одну тысячу долларов,— все это знать было не обязательно, чтобы почувствовать: вот человек, у которого жизнь удалась.
Когда он с нами разговаривал, в области сердца у него периодически раздавалось треньканье, и тогда он вынимал из-за пазухи маленький сотовый телефон и говорил примерно так:
— Кисуля? Я скоро... Ну, не знаю... Я тут еще насчет Мишки... у психологов... Что тебе сделать? Психоанализ? Обещаю. И даже два раза. Готовься...
Единственным обстоятельством, слегка омрачавшим жизнь этого человека, был его десятилетний сын.
— Он какой-то у меня туповатый,— жаловался отец.— Учится плохо, медлительный, как черепаха. Неинициативный — в общем, не в меня, а в свою мамашу.
— Вы в разводе с женой? — спросили мы.
— Естественно! Это полное ничтожество, которое совершенно не приспособлено к сегодняшней жизни. И внешне серая мышь, и денег не умеет заработать. Нищая, опустившаяся... Ну представляете?! Училка!
— Надеемся, мальчику вы этого не говорите?
— Как не говорю? — возмутился бизнесмен. — Он должен знать правду про свою мать. Я бы ее с удовольствием родительских прав лишил, потому что она даже нормально обеспечить не может пацана. Да связываться неохота. Тем более что она и так мне его фактически отдала. Он уже полгода у меня живет.
— Полгода? — ахнули мы.
— Ну да. А что? Она же несостоятельная. Сначала, конечно, были женские капризы... даже угрожать пыталась. Представляете? Она — мне! Но потом утихла. Я ей прямо заявил: «Будешь возникать, вообще сына не увидишь. Скажу в суде, что ты проститутка, а на свидетелей у меня хватит».
— А она что, действительно...?
— Да о чем вы говорите! Кому она такая нужна? Там сексапильность на нуле. Можете мне поверить,— бизнесмен многозначительно улыбнулся.
— Так вы лишили ребенка матери? — не удержалась одна из нас.
— Почему? — спокойно возразил бизнесмен. — Во-первых, она иногда по воскресеньям его получает, а во-вторых, моя кисуля,— тут бизнесмен снова многозначительно улыбнулся,— отлично с ним управляется. Без проблем!
В следующий миг у него под пиджаком опять зазвенело.
— Во, телепатия! — восхитился он, доставая трубку. А поговорив с дамой сердца, продолжил свой рассказ, из которого мы узнали, что Мишина спальня соседствует со спальней отца и «кисули», причем дверей между ними нет.
— Я их снял. Сейчас в моде анфилады, под старину,— пояснил наш собеседник.
— Но ведь Миша уже большой мальчик, он может что-то увидеть или услышать...
— Так он и видит и слышит! Будущий мужик — пусть привыкает! — с полным сознанием своей правоты воскликнул заботливый отец.— Тем более что у нас с кисулей все так классно. Как в кино! Мишка, между прочим, и кино вместе с нами смотрит. Я против ханжеских запретов. Они только психику уродуют. Он у меня растет нормальный, без комплексов. Ему надо только успеваемость наладить — и все.
«Нормальный, без комплексов» Миша, которого мы пригласили затем в кабинет, боялся поднять глаза на незнакомых людей, яростно грыз ногти и все время дергал шеей, как будто воротник свитера сдавливал ему горло. А еще у него был жуткий нейродермит: на руках, на щеках, на лбу шелушилась красная кожа.
Потом нам все же удалось его разговорить. Он оживился и даже сказал, что папа подарил ему на Рождество отличную игрушку: негра с высунутым языком.
«Потянешь за язык,— объяснил мальчик,— а у него половой член поднимается». И оглянулся на отца.
Тот с неподдельной нежностью погладил сына по затылку.
— Вот, пожалуйста! Эти дела он с ходу сечет. Настоящий мужик. Ему бы только успеваемость подправить — и нет проблем!
...Успеваемость мы Мише «подправлять» не стали, ведь это было лишь следствие, а причину мы устранить не могли. Впрочем, как нам стало известно, Мишин отец тоже в скором времени понял, что проблем у сына гораздо больше, чем ему казалось поначалу. Но разрешил их совсем не так, как советовали мы. Вместо того чтобы вернуть глубоко травмированного ребенка матери, он отправил его за границу в английский пансион. То есть фактически сделал Мишу сиротой при живых родителях. Мальчика, которому с трудом давалась учеба на родном языке, обрекли на жизнь в чужой языковой среде, где он вынужден был приспосабливаться к чужим нравам и чужим людям.
— А как отнеслась к этому мама? — спросили мы, когда бизнесмен поведал нам о Мишином отъезде и о том, сколько стоит такой пансион.
— Да она радоваться должна, что сын живет в Англии,— последовал категоричный ответ.— И не просто в Англии, а в средневековом замке. Ей такое в самом счастливом сне присниться не могло.
Вскоре мы узнали, что Мишина мать покончила с собой — выпила огромную дозу снотворного. Вероятно, для того, чтобы «счастливый сон» не прервался никогда.
Тяпа
Так звали очаровательную куклу, с которой когда-то выступал Образцов. И так звали девочку с выпуклыми, как у куклы, щеками, которая жила на Кипре. Вернее, имя у нее было другое, но вслед за родителями все ее называли Тяпой.
На Кипре она жила с бабушкой, а мама и папа, хозяева туристической фирмы, находились в основном в Москве, изредка навещая дочь и раз в году привозя ее на подмосковную дачу.
В один из таких приездов мы и увидели Тяпу впервые. Ей тогда было шесть лет.
Жалобы матери на истерические припадки девочки как-то совсем не вязались с тем веселым и румяным существом, которое предстало перед нами. Тяпа говорила без умолку, разыгрывала забавные сюжеты с нашими тряпичными куклами, очень смешно в этих сценках показывала бабушку, сияла, встречаясь взглядом с матерью.
Оставшись с мамой наедине, мы спросили:
— Давно была последняя истерика?
— Ну, когда она здесь, так вообще все нормально,— ответила мать.— С нами-то не очень повыкрутасничаешь. А вот бабушку она буквально доконала. Моя мама уже отказывается с ней жить. Говорит, только заснешь, крики, слезы, требования зажечь свет, почитать книжку, дать шоколадку. Она столько сладкого ест! Это ужас!
— Может, она нервничает? — предположили мы.— Бывает, что дети едят много сладкого при повышенной тревожности.
— Так я ее и привела к вам, потому что у нее психика не в порядке! Нормальный ребенок разве будет то и дело рыдать в такой потрясающей обстановке? Она там живет, как в раю. У нас двухэтажная вилла, места сколько угодно, бассейн. Игрушками мы ее завалили, видеотека — любой клуб позавидует, компьютерные игры... У меня лично ничего похожего в детстве не было! Местная женщина каждый день приходит готовить. Греческая кухня обалденно вкусная. Вы когда-нибудь пробовали мусаку?
Тяпина мама еще долго была готова описывать прелести кипрской жизни, если бы мы не прервали ее вопросом:
— А может, оставить девочку здесь? Она же явно скучает по родителям.
Ответ был жестким и не допускающим дальнейших дискуссий:
— Это исключено!
Но, вероятно, сообразив, что такая жесткость все же нуждается хотя бы в минимальной мотивации, мать добавила:
— Видите ли... у нас такие обстоятельства... В общем, здесь она не может находиться без телохранителя. А круглосуточный телохранитель — это дикие деньги. Гораздо дороже, чем держать Тяпу с бабушкой на Кипре. И потом, муж поклялся, что его дочь не будет расти в «совке».
— Может, тогда вы с мужем переедете на Кипр? — для очистки совести спросили мы, хотя ответ легко было предугадать.
— Ну что вы! У нас же все дела полетят. Тут ведь сейчас можно нормальные деньги делать, а там что? Виноград выращивать? Мы больше чем на два дня вырваться не можем. Да и тоска на этом Кипре смертельная. Особенно когда море холодное...
Походив еще какое-то время по кругу, мы убедились, что мама на самом деле все прекрасно понимала. И то, что бассейн и греческая мусака не могут заменить Тяпе родителей, и даже то, что если не изменить ситуацию, девочка обречена на страдания.
Но, казалось бы, чего тогда она хотела от нас? Это тоже довольно скоро стало понятно. Она хотела, чтобы ее дочь «не возникала», потому что бабушке уже было невмоготу, а чужого человека нанимать боязно. Сейчас ни в ком нельзя быть уверенным, кроме самых близких. Словом, вся конструкция грозила рассыпаться.
Мы предупредили Тяпину мать, что положение будет только усугубляться. Она, еще раз повторив, что изменить ничего нельзя, ушла.
А через два года появилась вновь — на этот раз с просьбой порекомендовать хорошего детского психиатра. Она уже была готова давать девочке таблетки, а если потребуется, и уложить ее в больницу.
— Я на Кипр сейчас вообще ездить не могу. Мне, знаете, надоело болтаться без дела. Надо профессионально определяться. Мы тут кое с кем переговорили... короче, меня попробуют раскрутить как телеведущую. Вкалываю сейчас, как проклятая: актерское мастерство, техника речи, пластика... Куча проблем. В общем, муж мотается к Тяпе один. Прилетает в Москву невменяемый. Говорит: «Виснет на мне, как взрослая женщина». Целует, садится на него верхом, когда он отдыхает, требует, чтобы он засыпал с ней рядом. Представляете, какой кошмар? В восемь лет — и такая бешеная сексуальность!
Мы попробовали объяснить матери, что это все то же проявление тоски по родителям. Но она стояла на своем.
Мы спросили, где девочка сейчас.
— Нет, в Москву мы ее больше не привозим,— покачала головой мать.— У наших друзей недавно украли ребенка, а Тяпа у нас одна... И потом, у нее еще вот какая странность появилась: совершенно не терпит обтягивающей одежды. Тут ведь летом и холодно бывает, без колготок не обойтись, а она ни в какую не хочет их надевать. Сразу слезы, скандал... В общем, нужен серьезный врач. Дорогу, проживание и услуги мы оплатим.
Порекомендовав врача, мы потеряли эту женщину из виду еще на несколько лет.
А когда она снова объявилась, то разговор уже зашел об опытном наркологе. Мы, грешным делом, сперва подумали, что это нужно ей, что у нее психика тоже оказалась не железной. Но догадка была ошибочной.
Нарколог требовался Тяпе.
Она там, на Кипре, в последние годы совсем отбилась от рук и завела парня, который втянул ее в компанию наркоманов. Бабушка перенесла инсульт и теперь сама нуждается в опеке. Телезвездой мать так и не стала, зато семейный бизнес развивается успешно.
Наташа
Наташа была тихой, покладистой девочкой. Вся в мать. Та тоже предпочитала пойти на уступки, лишь бы избежать конфликта. Поэтому жизнь в их доме протекала мирно и гладко.
Но когда Наташе исполнилось десять, в обществе начался психоз посредничества. Все кому не лень перепродавали вагоны сахара, цистерны спирта, фуры с компотами. Получалось в основном как в возникшем в то же самое время анекдоте, когда уже после заключения сделки продавец бежит на поиски товара, а покупатель не менее лихорадочно ищет деньги. Но азарт побеждал — и люди вновь и вновь гнались за химерой легкого обогащения. Слухи о чужих успехах роились, словно пчелы, и казалось, вот она, госпожа Удача! Только руку протяни...
Да что там слухи! По телевизору то и дело показывали молодых миллионеров, которые прямо заявляли, что сейчас только самый ленивый или дурак не делает деньги. Из чего угодно, хоть из воздуха! Помнится, был даже сюжет про парня, который за день наживал миллион — по тем временам целое состояние — и охотно делился опытом с «почтенной публикой».
Короче, в обстановке такого ажиотажа у многих, вполне естественно, «ехала крыша». «Поехала» она и у отца десятилетней Наташи. Но в отличие от маклеров, которые торговали воздухом, не вкладывая в это дело ни копейки и мороча головы своим потенциальным партнерам, Наташин отец «вложился» основательно. Причем деньги были взяты в долг, и не у друзей — у тех просто не могло оказаться подобной суммы,— а под проценты у ростовщика. Их тоже тогда расплодилось, как грязи, и они вовсе не были похожи на беспомощную старушонку, увековеченную в известном романе.
Наташина мать узнала о происходящем, когда пришло время отдавать долги и на семейном горизонте замаячили угрюмые люди, от которых за версту несло уголовщиной.
Поняв, наконец, что к чему, эта кроткая женщина проявила железную волю. Решительно взяв инициативу в свои руки, она быстро продала прекрасную трехкомнатную квартиру, расплатилась с кредиторами, на остаток денег приобрела себе и дочери однокомнатную «хрущобу», а мужа выставила за дверь.
По нынешним временам — это еще «хэппи-энд». Могло быть гораздо хуже. Слава Богу, обошлось без трупов, без взятия ребенка в заложники и прочих моментов, которые вдруг в одночасье перекочевали из остросюжетных фильмов в нашу реальность.
Да, мать и Наташа, можно сказать, счастливо отделались. Но жизнь тихой женщины разбита, а девочка... Какие уроки она извлекла из случившегося? Попробуйте встать на место ребенка: вдруг, непонятно почему, лишиться и отца, и просторного, привычного дома, очутившись в какой-то клетушке, куда вдобавок ко всему заявляются полупьяные дядьки с угрозами! (До того в квартире жил алкоголик, который потом исчез, и собутыльники подозревали, что Наташина мать его извела, чтобы завладеть квартирой.)
Желая уберечь дочь от лишних травм, мать не посвящала Наташу в подробности происходящего, не ругала отца. Но и это ей вышло боком. Впрочем, в подобных ситуациях куда ни кинь — всюду клин. Раздражение, копившееся в душе девочки, вылилось в конце концов на и без того затравленную мать. Наташа, вступившая к тому времени в трудный возраст, принялась обвинять во всем... ее!
У матери сдали нервы, она резко постарела, исхудала, на нее стало страшно смотреть. Сколько еще протянет — неизвестно, но вряд ли долго. Наташе — четырнадцать. Колючая, злая, циничная. Год назад связалась с дурной компанией, часто не ночует дома. Курит, пьет, матерится, обожает «крутых». Готовая «невеста мафии».
«В гробу я вас всех видала!» — читается в ее прищуренных глазах.
Нашим западникам очень поучительно было бы поговорить с ней об уважении к собственности и законам, которое нам сейчас так необходимо для построения правового государства.
Кирилл
Кирюшины родители не поскупились и наняли своему шестилетнему сыну круглосуточного телохранителя. Вернее, двоих: они работали посменно. Тогда, несколько лет назад, это только входило в моду и могло быть продиктовано еще и соображениями престижа. Хотя, конечно, у Кирюшиного папы, директора частного банка, были основания для повышенной бдительности.
Чтобы не пугать Кирюшу, которого, естественно, насторожило появление в доме двух накачанных молодцов, мальчику было сказано, что это родственники. Они приехали из другого города, и им негде жить. Вот они по очереди и ночуют в просторной квартире.
Ну а чтобы слова не расходились с делом, банкир и его жена постарались сделать охранников чуть ли не членами семьи: телохранители обедали вместе с хозяевами, принимали участие в застольных разговорах, с ними часто советовались по тому или иному хозяйственному вопросу.
Но в душу мальчика все-таки закралась смутная тревога.
— А почему дядя Коля и дядя Саша ходят за мной? Куда я, туда и они? — однажды поинтересовался он.
— Потому что «потому» кончается на «у»,— неожиданно сердито ответил отец.
А мама с какой-то виноватой улыбкой добавила:
— Так надо, сынок.
Загадочные ответы родителей насторожили Кирюшу еще больше. А вскоре он получил и настоящий ответ на свой вопрос.
Однажды утром дядя Коля, придя на смену дяде Саше, достал из кармана пальто газету.
— Во как уважают нашу профессию! Только что в подземном переходе купил.
Газета называлась «Телохранитель». Дядя Саша забыл ее на стуле, а Кирюша подобрал и прочитал название — он уже умел читать по складам.
— Что такое «телохранитель»? — спросил он у мальчика, который пришел к ним в гости.
— Ты чего, совсем дурак? — засмеялся приятель.— Телохранитель — это человек, который охраняет. Чтобы тебя не убили, понял?
И Кирюша понял. Понял, кто такие дядя Коля и дядя Саша. Понял, почему тогда так смутились родители. А главное, понял, что его могут убить. В пять-шесть лет дети обычно начинают задумываться о смерти. И для многих это становится по-настоящему трагическим переживанием. Но в основном ребенок страдает, представляя себе смерть близких, а его собственная кажется такой далекой, что тревожит гораздо меньше. Да и родители торопятся успокоить малыша: «Не волнуйся, это случится еще не скоро, когда ты будешь совсем-совсем стареньким. А может, к тому времени даже изобретут лекарство, чтобы люди не умирали». Но все равно для некоторых детей осознание факта человеческой смертности — это тяжелейшая психическая травма.
А теперь представьте себе, каково шестилетнему мальчику было узнать, что он может умереть прямо сейчас: завтра, послезавтра, через неделю! Да еще насильственной смертью, которая, как он уже знал из кино, бывает сопряжена с болью и ужасом. А у Кирюши обыкновенный укол вызывал панику.
Теперь, когда он знал правду, страх шел за ним по пятам в ногу с охранниками. Больше всего ему хотелось спрятаться за их спины, как за пуленепробиваемый щит, сделать так, чтобы они шли впереди, а он сзади. Но и сзади было жутко. Кирюша представлял себе, как пуля, прострелив взрослого насквозь, все равно попадет в него, и содрогался от ужаса.
Вскоре он наотрез отказался гулять. Никакими силами не удавалось выманить его на улицу: то у Кирюши болела голова, то он начинал кататься по полу, держась за живот, то буквально заходился в кашле.
Кирюша стал видеть страшные сны. И если наяву он часто представлял себе смерть от выстрела, то во сне убийца душил его огромными ручищами в черных перчатках. Кирюша напрягал из последних сил сдавленное горло и звал на помощь.
Дядя Коля, устав от этих ночных криков, уволился, а появившийся вместо него дядя Витя внешностью удивительно напоминал убийцу из Кирюшиных сновидений.
Вскоре у Кирюши начались настоящие астматические приступы. Родители бросились к врачам-аллергологам, гомеопатам и даже экстрасенсам. Результат был нулевой. Не помогали ни холодные обтирания, ни обливания, ни поездки на курорт. Узнав, что астма бывает и невротического происхождения, Кирюшина мать постаралась исключить из жизни ребенка все травмирующие факторы: убрала из дома телевизор, не читала ему страшных сказок, запрещала мужу говорить в присутствии мальчика о каких бы то ни было неприятностях. Она даже отказалась от услуг дяди Вити, который почему-то не нравился ее сыну!
Но вовсе отказаться от телохранителей родители не могли: в их положении это было далеко не безопасно. Так что главный травмирующий фактор устранить не удалось. Да и потом Кирюша к тому времени был уже буквально нашпигован страхами и психологически не мог обходиться без постоянной охраны точно так же, как не мог обходиться без ингалятора, заряженного эфедрином.
Кирюша теперь в основном сидел дома и непонятно чего больше боялся: сна или бодрствования. В постель он ложился только со скандалом, а утром подолгу не хотел вставать и лежал, укрывшись с головой одеялом.
Уже пора было идти в школу, но об этом не могло быть и речи. Кирюшу обучали на дому. Впрочем, и это оказалось для него непосильной нагрузкой.
Сейчас ему девять. Из спокойного доброжелательного мальчика он превратился в домашнего тирана. Банкир, которому надоело видеть страдальческие глаза жены, старается бывать дома пореже. Она даже подозревает, что муж тайно завел вторую семью, и с ужасом ждет, что он объявит ей о своем уходе, и Кирюша лишится отца.
Хотя — как знать? Быть может, именно это станет началом Кирюшиного исцеления, ведь вместе с отцом (человеком не самым щедрым) из дома уйдет и богатство. А значит — опасность быть украденным и убитым...
Но пока... пока у Кирюши все чаще и чаще бывают приступы ночного удушья. Это мечется, заставляя судорожно сжиматься легкие, его загнанная страхом душа.
Леня
Природа страхов бывает разной, и проявляется она по-разному. Пятилетний Лёня больше всего любил играть в полицейского. Причем не с ребятами, а с игрушками. Таким образом распределение ролей было целиком в его власти, и роль полицейского всегда доставалась ему, а роли преступников, соответственно, игрушкам. Но само по себе это не вызывало никакой тревоги. Вполне естественный для мальчишки сюжет! Тревожило другое: Лёня-полицейский пойманных «преступников»... пытал на электрическом стуле. Нравилось ему и применять раскаленный паяльник. Не настоящий, конечно, а воображаемый. К слову сказать, воображение Лёни было несколько однообразным и пугало своей жестокостью. Особенно изощренным пыткам подвергался почему-то большой плюшевый Микки-Маус, беспечно-добродушная мордочка которого, казалось бы, могла склонить к милосердию даже отпетого злодея.
Но самое интересное — в Лёниной внешности не было ни тени того, что намекало бы на подобные наклонности! Скорее, наоборот. Худенький, тихий, с милым добрым лицом, он был похож на безобидного мальчика Вишенку из сказки про Чиполлино. Главным в его облике была та самая врожденная интеллигентность, которая никак не сочетается с агрессивностью и уж тем более с садизмом.
А вот Лёнин отец ни врожденной, ни приобретенной интеллигентностью не отличался. Он был типичным «новым русским»: самоуверенный и самодовольный хозяин жизни, не отягощенный рефлексией. Одним словом, грубо сделанный человек. Или, по нашей терминологии, неэлевированный. Друзей его мы не видели, но со слов Лёниной матери знали, что они «еще круче». Открыто она, конечно, не признавалась, но давала понять, что компания мужа в основном состоит из мафиози.
— Лёня их просто не выносит,— жаловалась мать.— Особенно одного... он такой шумный, чуть что не по нему — сразу в драку. Как-то раз даже запустил в другого нашего гостя фруктовым ножом... Хорошо, не попал... А не приглашать его нельзя — он у мужа начальник... Лёня от него под стол прячется. Вы же видите, какой он... Заячья душа. Когда ведьма в мультфильме «Русалочка» появилась, с ним истерика была. На все, буквально на все остро реагирует! Я однажды на даче хотела колорадских жуков потравить, так Лёнечка у меня на руках повис. «Мама,— кричит,— не надо! Им же больно будет!».
— И при этом он каждый день пытает Микки-Мауса? — спросили мы.
— В том-то и дело! — с готовностью подхватила мать.— Прямо какое-то раздвоение личности... И говорит, знаете, таким хриплым голосом, так грубо... Жуть берет, когда слышишь.
Мы достаточно быстро сообразили, что дело тут в иноприродности отца сыну. Но все равно оказались не готовы к той сцене, свидетелями которой нам вскоре довелось стать.
Однажды Лёнина мама заболела, поэтому папа не просто привез сына на занятие, а вынужден был на этом занятии присутствовать.
«Крутяк» всем своим видом демонстрировал пренебрежение к тому, чем мы занимались с детьми.
«Ё-мое! Куда я попал? Играют тут в какие-то бирюльки...» — было написано на его скучающем лице.
Особое презрение вызвала наша беседа с родителями в перерыве. Мы как раз говорили о «психотерапии жалостью», о том, что нервных детей очень важно учить состраданию, поскольку тогда они начинают чувствовать себя более сильными.
На этой фразе Лёнин папаша сломался. Возмущенно фыркнув, он вскочил с места и подошел к играющим детям.
Лёня и еще один тихий мальчик, сидя на ковре, строили из кубиков дворец.
— Кончайте лабудой заниматься, парни! — заявил этот деловой человек и резким движением поднял сына с пола.— Мужчина должен уметь бороться. Ну-ка, Леонид, покажи свою силу! Чего стоИшь? Не трусь! Налетай первый! Тебя папа как учил?
Лёня сжался от ужаса в комок, но покорно замахнулся на друга маленьким кулачком. Отец победно посмотрел в нашу сторону: дескать, вот она, настоящая психотерапия! Однако побоища не получилось, потому что второй мальчик кинулся к своей матери со словами: «Я ненавижу драться!», и во избежание скандала мы поспешили закончить перерыв и продолжить занятие.
Но история на этом не закончилась. Продолжение было дома, вечером того же дня. Лёню уложили спать, и вскоре из его комнаты запахло паленым. Вбежавшая в детскую мать увидела Микки-Мауса, привязанного Лёниными подтяжками к ножке торшера.
Многострадальный мышонок был охвачен пламенем, как ведьма во времена инквизиции. А рядом стоял маленький полицейский в ночной пижаме, и в его глазах горело торжество.
Дело в том, что мы забыли сообщить одну очень важную деталь: Микки-Мауса Лёне подарил отец.
Кто-то прочтет эту историю и скажет:
— А что тут, собственно, специфичного для нашего времени? Разность характеров. На этой почве конфликт. Разве раньше так быть не могло?
Так, да не так. Раньше уголовник, запускавший ножом в приятеля, не становился образцом для массового подражания. Прежними аналогами слова «крутой» были «шпана» и «бандит». И отец, обладавший грубой, низменной натурой, не кичился своей грубостью, а, скорее, с тайной гордостью вопрошал, глядя на своего утонченного ребенка:
— И в кого он такой?
И государство вполне определенно демонстрировало уважение к интеллигентным профессиям.
Теперь же, когда все поставлено с ног на голову, «крутой» отец ощущает себя солью земли, а своего интеллигентного ребенка считает выродком, из которого надо «выбить дурь». Больше того, мы уже встречали немало случаев, когда вполне интеллигентные люди, став «новыми русскими», спешили и сами перенять манеры «крутяков», и навязать их своим детям. Как вы, наверное, догадываетесь, в подобных случаях конфликт отца и сына выглядел еще драматичнее.
Тихон
Этого двенадцатилетнего тихоню даже звали Тихоном. Сегодня, да еще в Москве, такое имя — величайшая редкость.
Да, объяснила мама, имя, конечно, необычное, но так звали ее дедушку, который заменил ей отца. Увы, Тихон (она звала его полным именем) тоже растет без отца. Прямо рок какой-то! Мальчик повторяет ее судьбу. Жалобы? Да вот он животных почему-то любит мучить. Хоть не оставляй его наедине с кошкой! В последнее время — возраст, должно быть! — стал грубить. Причем такие обидные слова говорит, старается побольнее задеть. Что она старая, что бедно и некрасиво одевается, что не умеет зарабатывать, что ему стыдно ходить в школу в таком отрепье...
Хотя на самом деле выглядел тихоня не хуже других, и никакого отрепья мы на нем не заметили. Мать в лепешку ради него расшибалась.
Жалобы на жестокое обращение детей с животными и на грубость по отношению к родителям психологи слышат довольно часто, но при этом не торопятся записывать всех в садисты. Дети могут причинить животному боль просто по глупости, не рассчитав свои силы или еще не научившись сдерживать вспышки гнева. То же относится и к грубости.
Но мальчик с редким именем Тихон и вправду получал удовольствие, делая другим больно. Врожденные садистские наклонности у психически вменяемых детей встречаются редко, но зато такие люди причиняют окружающим много зла, так что их присутствие в мире весьма ощутимо.
Конечно, подобные дети рождались и раньше, но давайте посмотрим, какие впечатления преобладали в их жизни, скажем, в 70-е годы и какие преобладают сейчас.
Несколько десятилетий назад даже многие взрослые люди холодели от ужаса, глядя, как воскресает Панночка в фильме «Вий». И, пользуясь темнотой в зале, плакали, если на экране погибал кто-то «хороший». Про такие фильмы говорили «тяжелая картина» и старались детей на них не пускать.
Ребенку, склонному к жестокости, почти неоткуда было почерпнуть конкретные образы и рецепты. В газетах не писали, кто, где, когда и на сколько частей кого расчленил. Кинорежиссеры не соревновались друг с другом в количестве зверств на единицу экранного времени, равно как и в их изощренности. И уж тем паче по телевизору не показывали крупным планом обезображенные трупы реальных людей, а следом — пойманных убийц-подростков, которые залихватски улыбаются, глядя в объектив. Про взрослых же убийц, которых теперь уважительно называют «киллерами», не говорили, что их практически никогда не удается поймать и что они, пользуясь своей безнаказанностью, наглеют все больше и больше.
Да на такой почве кто угодно может вырасти садистом! А пресловутая ориентация на «крутость», о которой мы уже писали? Ведь безжалостность — неотъемлемый признак «крутого» парня!
Совсем недавно родители запрещали детям направлять игрушечный пистолет на человека. Теперь это выглядит безнадежным анахронизмом. Вроде бы мелочь, деталь, а за ней очень многое — целое мировоззрение.
Так что если вернуться к нашему тихоне по имени Тихон, то ничего удивительного в его жестокости нет. Скорее, удивляет другое: почему он мучает животных тайно, когда мог бы делать это открыто? Он же не боится матери.
Видимо, пока не удалось вытравить до конца то естественное, присущее всякому нормальному (даже злому) человеку чувство стыда.
Зацепившись именно за этот «остаточный» стыд, мы и построили работу с Тихоном в своем лечебном театре. Здесь не место описывать ее подробно, но суть сводилась к тому, что Тихон, участвуя сперва в театральных этюдах, а потом и в спектакле, играл фактически навязанную ему роль доброго, даже сердобольного человека.
Надо было видеть, как он поначалу на это реагировал! Есть такое народное выражение — «бес крутит». Нечто похожее происходило и с Тихоном. Он пускался на самые разные хитрости, прибегал к всевозможным уловкам, лишь бы не играть персонажа, который кого-то пожалел, кому-то помог. Его обычно невыразительное лицо в такие минуты нервно кривилось, левый угол рта полз вниз, и становилось не по себе от этой карикатурно-зловещей улыбки. А однажды Тихон не выдержал и, показывая сценку, в которой по сюжету ему предстояло помочь поскользнувшейся старушке, злорадно захохотал, когда она упала, и от восторга даже подпрыгнул.
Но постепенно нам все-таки удалось втиснуть его в роль, и дело сдвинулось с мертвой точки. Опять же, мы не будем долго описывать те благие перемены, которые произошли в душе мальчика. Скажем лишь, что его лицо преобразилось. Оно стало милым, а главное, обрело детское выражение. Ведь садизм, то есть спланированная жестокость,— недетское чувство, и, провоцируя ребенка на это, телевизионщики и создатели компьютерных игр не просто будят в нем зло, а нагло крадут у него детство. Ибо детство можно украсть, не только вынуждая ребенка слишком рано зарабатывать на хлеб, но и приобщая его к недетским зрелищам, которые вызывают недетские эмоции.
И это гораздо более серьезное нарушение прав ребенка, чем то, в котором нас может упрекнуть поборник воспитания «свободной личности». Да, мы фактически насильно назначили Тихона добрым, но когда мы это сделали, он так легко и радостно поплыл по жизни, как плывет рыба, снятая с крючка и пущенная в воду. И стал гораздо свободней, чем был раньше, ибо был освобожден от зла.
Эта история, в отличие от многих других, закончилась счастливо. Но сколько таких Тихонов не попало ни к нам, ни к другим специалистам? Да разве и можно сейчас поручиться за то, что когда-нибудь даже в нашем очеловеченном мальчике вновь не проснется зверь? Ведь этого зверя так настойчиво, так рьяно будят...
Лелька
Лёлькину маму обычно принимали за ее бабушку. Хотя ей было немного за сорок, выглядела она на все шестьдесят: высохшая, с глубокими морщинами, одетая в старое тряпье. Ее болезненно-изможденное лицо казалось испитым, но очень быстро выяснилось, что она не только водки, но и вина не пьет.
— У меня от него голова болит. Да и Лёлька терпеть не может, когда выпивают. Не дай Бог кто-нибудь из наших гостей принесет бутылку — всё! Сразу станет ее смертельным врагом. Она у меня вообще суровая. Настоящий цербер.
«Цербер» стоял неподалеку и мрачно перебирал кукол, разложенных на маленьком столике. Худющая, бледная, она все время недовольно хмурилась и по любому поводу начинала пререкаться с матерью. Даже ее тощие косички как-то злобно топорщились в разные стороны.
— Вес у нее, как у пятилетней,— вздохнула мать.— А ведь ей уже скоро десять. Уж я каждое утро манную кашу варю, а все без толку. Не в коня корм.
— Доктор говорил, что мне парную телятину надо давать и фрукты,— неожиданно вмешалась в разговор Лёлька.— А ты меня этой дурацкой кашей пичкаешь. И макаронами без сыра.
— Доктора свои диеты на миллионеров рассчитывают, и ты это прекрасно знаешь,— устало огрызнулась мать.— Откуда у меня деньги на такие деликатесы? Я воровать не научилась. И так на двух работах, больная, хоть сейчас вторую группу получай...
Девочка еще сильнее насупилась и пробубнила себе под нос:
— А ты научись.
Но от громких реплик воздержалась.
Мы стали заниматься с Лёлькой, и давалось это, надо сказать, с трудом. Она вечно была чем-то недовольна, страшно завидовала другим детям, замечала, какая у кого кукла, какой рюкзак, какая одежка. И тут же, не смущаясь присутствием посторонних, предъявляла претензии своей матери.
Ситуация усугублялась еще и тем, что Лёлька училась в так называемой «престижной школе», куда многих детей привозили на машинах, и эти дети, естественно, обладали всем тем, о чем тщетно мечтала Лёлька. А ее мать, работая в той же школе воспитателем группы продленного дня и уборщицей в детском саду, еле сводила концы с концами. Рассчитывать ей было не на кого: мужа за беспробудное пьянство пришлось выгнать, родственников не было, а девочка родилась болезненной, и с тех пор, как лекарства подскочили в цене, денег хронически не хватало. А главное, не было никакой перспективы, никакой надежды на просвет.
Лёльку это страшно травмировало, и она постоянно конфликтовала со своими «упакованными» одноклассниками. А поскольку, несмотря на тщедушное телосложение, отваги ей было не занимать, она слыла грозой класса и от нее плакали даже мальчишки.
— Я попробовала посоветоваться со школьным психологом,— пожаловалась мать.— Так он мне знаете, что выдал? Нужно, говорит, отучать ребенка от зависти. Какое ей дело, говорит, до того, кто как одет, кто что ест, у кого какая машина? У богатых, говорит, одни радости, у бедных — другие. Каждому свое. Она же ходит, дышит, живет — вот пусть и радуется! И знаете, я слушала этого молодого человека, а сама грешным делом думала: «Боже мой! До чего мы дожили! “Каждому свое”... Да это же надпись на воротах концлагеря!».
Не найдя понимания в школе, мать обратилась к нам. Мы осторожно посоветовали ей поискать более прибыльную работу.
— Да в том-то и вся загвоздка! Если я уйду из школы, Лёльку тут же выгонят в три шеи. С ней ведь одна морока. А от меня учителям тоже никакой пользы: ни дорогих подарков, ни ценных услуг. Кто ее будет терпеть, если я уйду? А школа хорошая, в нашем микрорайоне таких больше нет. Если уж я ей ничего другого не могу дать, то дам хоть нормальное образование.
Ситуация была какая-то тупиковая. Мы, конечно, постарались, насколько могли, укротить Лёльку (и кое-что нам удалось), но на душе было пакостно. На наших глазах оживал тот мир, который еще недавно казался далеким, невозвратным прошлым — мир героев Короленко... Пока, правда, у сегодняшних «детей подземелья» есть квартира и даже возможность бесплатно учиться и получать элементарную медицинскую помощь (неэлементарная уже под большим вопросом). Но это пока... Новые решения и законопроекты властных структур весьма быстрыми темпами ведут к тому, чтобы покончить и с этими остатками «презренной уравниловки».
А с Лёлькой мы встретились через полгода. На дворе стоял октябрь. Уже топили, так что нам было совершенно непонятно, почему она отказывается снять перчатки. Но вскоре поняли. Перчатки были модные, с разноцветными пальчиками, и Лёлька то и дело демонстрировала нам свои растопыренные руки.
— Ой, какая красота! — принялись мы восхищаться ее обновкой.— Это мама, наверно, тебе купила, да?
Лёлька замялась и почему-то вдруг помрачнела.
За нее ответила мать:
— Да что вы! Мы теперь почти ничего не покупаем. А живем как у Христа за пазухой! Мы с Лёлькой наконец-то и отъелись, и оделись, и обулись — спасибо моей подруге! У нас рядом дом построили для богатых. Так она, подружка моя, уборщицей меня туда устроила. По совместительству — я школу не бросаю! А у них, в этом доме, мусоропровод как супермаркет! Чего там только нет! Представляете, иногда даже почти нетронутые банки с икрой выбрасывают! А фруктов — навалом! Лёлька, умница, мне все лето помогала. Я ведь тогда вас послушалась — помните, вы мне насчет прибыльной работы сказали? И стала искать. А тут такой случай подвернулся. Повезло, правда? Вот мы и пришли похвастаться и вас поблагодарить.
И она выложила на стол два персика, похожие на восковые муляжи.
Рита
Одиннадцатилетняя Рита очень любила свою младшую сестру Катю, которой было чуть больше трех. Любовь старшего ребенка к младшему часто, гораздо чаще, чем думают многие взрослые, бывает окрашена ревностью. Но в Ритином отношении к сестре ревности не было и в помине.
Жили девочки с мамой и с бабушкой. Нельзя сказать, чтобы уж очень скудно: мамина зарплата плюс бабушкина пенсия плюс небольшие, но регулярные алименты. В общем, на скромную жизнь хватало. Правда, летом приходилось торчать в Москве (за исключением двух недель на даче у маминой подруги). Многие вещи Рите тоже доставались от маминой подруги, у которой дочь была на два года старше. А еще они с мамой гораздо реже стали бывать в театре.
Рита как-то спросила, почему. Мама ответила:
— Это нам теперь не по карману.
— Жалко,— вздохнула Рита, но близко к сердцу мамин ответ не приняла.
Она вообще была неприхотливой и совсем не завистливой. У нее был в буквальном смысле слова дружелюбный характер: она любила дружить. В свое время Рита сама настояла на том, чтобы ее отдали в детский сад. Случай почти небывалый! Большинство родителей не знает, как убедить своих детей туда пойти, а тут по собственной инициативе! Про таких, как Рита, принято говорить «золотой характер». Неунывающая, доброжелательная, всегда в окружении подруг, девочка была утешением для мамы, у которой не очень-то сложилась личная судьба.
Поэтому, когда учительница сообщила матери по телефону, что Риту «застукали» на воровстве, Нина Сергеевна обвинила учительницу в клевете и бросила трубку. Потом взяла себя в руки и все же пошла в школу объясняться. Доказательства были неопровержимыми: вошедшая в раздевалку уборщица увидела, как Рита шарит по карманам. Сумма, которую у нее обнаружили, свидетельствовала о том, что Рита успела ревизовать не один карман.
— У меня у самой в голове не укладывается... — растерянно проговорила учительница.— Такая хорошая девочка... и семья у вас интеллигентная... Я, конечно, все сделаю, чтобы эту историю замять, но вы уж со своей стороны тоже постарайтесь... Главное, надо понять — зачем... Она что, голодная? Нет же, правда?
— Нет,— только и могла повторить Нина Сергеевна и на ватных ногах поплелась домой.
Дома, естественно, разразился скандал. На все расспросы, угрозы, увещевания Рита ответила несвойственным ей упрямым молчанием. Но больше всего Нину Сергеевну поразило выражение ее лица. Это был не стыд, не раскаяние и совсем уж не страх наказания. Скорее, в лице Риты сквозила тайная гордость за свое мужество. Как у партизана на допросе в старых советских фильмах.
— Вот что значит расти без отца! — причитала бабушка.— Говорила тебе, не разводись! Ну, загулял, с кем не бывает? Подумаешь, велика важность! Детям отец нужен. Отец! Срочно звони ему, пусть разберется со своей дочерью. А то очень хорошо устроился: деньги дает — и до свидания!
Но и отцу не удалось добиться от Риты ответа. Бабушка от огорчения уехала погостить к родственникам, а мать объявила Рите бойкот. Так что общалась с ней только ни о чем не ведающая маленькая Катька.
Тайна раскрылась неожиданно. Вскоре после случившегося Нина Сергеевна, войдя в квартиру, услышала голос Риты, которая в последние дни не ходила в школу и оставалась дома вдвоем с младшей сестрой.
— Не бойся, Катюха! Не будет у тебя рахита! Я уже на целый год накопила... и еще накоплю!
Заинтригованная мама на цыпочках приблизилась к двери и заглянула в щелку. На диване в обнимку сидели ее дочери, и старшая делилась с младшей своими планами. Она говорила взволнованно, даже вдохновенно, и в ее монологе звучали какие-то совсем не детские слова: «акции», «проценты», «инфляция». И почему-то «рахит», «рахит», «рахит»...
У Нины Сергеевны голова пошла кругом. Что она мелет? Что за бред? А может... Рита действительно заболела? Бедняжка, наверное, так переживала эту историю с воровством...
Нина Сергеевна уже готова была обнаружить свое присутствие и схватилась за дверную ручку, но тут до нее долетела фраза: «Плевать нам на безработицу».
И все вмиг встало на свои места.
Нина Сергеевна вспомнила, что в последние три месяца у них дома постоянно муссировалась тема ее возможного увольнения. Химический завод, на котором она больше десяти лет проработала старшим инженером, собирались закрывать, и, конечно же, она очень боялась остаться на улице. Кому сейчас нужна женщина с двумя детьми, да еще специалист по тонким полимерам? А бабушка, у которой, как у многих людей, переживших войну, еда была «пунктиком», впадала от этих разговоров в панику и твердила, что если ребенок в раннем детстве не получает полноценного питания, у него обязательно будет рахит. И приводила в пример своих знакомых, фигура которых была изуродована блокадным детством (бабушка была родом из Ленинграда). А одной подруге кривые ноги помешали выйти замуж!
Слушая эти «страсти-мордасти», Рита представляла себе маленькую сестренку Катю с огромной головой, раздувшимся животом и тонкими скрюченными ножками. Этот образ теперь то и дело возникал в ее воображении. И старшая сестра решила действовать! А то взрослые только боятся да причитают...
Нина Сергеевна содрогнулась, вспомнив разговоры, которые они постоянно вели в присутствии детей. И о том, что нет никаких перспектив на будущее, и о том, каким непростительным легкомыслием было в сегодняшней жизни рожать Катьку, и о том, что без денег ты теперь вообще не человек, и неоткуда ждать помощи... Короче, все сводилось к тому, что жить страшно и «от судеб защиты нет».
А еще вспомнила Нина Сергеевна, как Рита месяца два тому назад с гордостью сообщила, что подружилась с девочкой из богатой семьи. Она ходила к этой девочке в гости чуть ли не каждый вечер и, возвращаясь домой, отказывалась ужинать.
Говорила:
— На мне можно сэкономить. Я у Лены наелась до отвала. На сутки хватит, так что могу и не завтракать. Банан тоже отдайте Катьке. Она у нас растущий организм.
Бабушка еще смеялась:
— Ох и обезьяна растет! Все за взрослыми повторяет.
Но Нине Сергеевне, которая сейчас все это вспоминала, было не до смеха.
«Может, она у Лены не только ела, но и...?».
...Домашнее следствие подтвердило самые худшие предположения. Да, Рита воровала и в школе, и у Лены, и у других девочек.
Выяснилось, что она, наслушавшись разговоров о скорой маминой безработице, начала оценивать подруг в основном по критерию состоятельности и с «несостоятельными» больше не общалась.
Самое страшное, что даже когда обо всем стало известно и за шкафом был обнаружен тайник с весьма значительными денежными «инвестициями» и несколькими золотыми безделушками, у девочки не было и тени раскаяния. Огорчало ее лишь то, что от нее отвернулась мама, но Рита и это склонна была рассматривать как неизбежную жертву во имя семьи.
Сейчас в самых разных контекстах слышишь, что семья должна наконец стать в нашем обществе не просто ценностью (это неоспоримо!), а ценностью номер один. Некоторые умники даже договорились до того, что семья и будет нашей новой национальной идеей. Дескать, нечего искать «свой особый путь», надо поставить семейное благополучие во главу угла — и порядок.
Вот одиннадцатилетняя Рита и поставила. В результате окружающие люди, в том числе и близкие друзья, утратили для этой девочки самостоятельную ценность, стали объектами, которые можно использовать в своих интересах. И это гораздо опаснее, чем откровенное ницшеанство, ибо Рита старалась не ради себя, а ради общества — установка вполне традиционная для русской культуры. Только общество свелось к членам ее семьи, а все остальные оказались вне.
Евгений и Гришка
Они были родными братьями и погодками, но никто бы, даже очень всматриваясь, этого не заподозрил. У них не было ничего общего ни во внешности, ни в характере. Старший — юный английский аристократ. Мы его между собой прозвали Оскар Уайльд. Его томное лицо обычно выражало надменность, а нередко и брезгливое презрение. Младший же — воплощенное добродушие и веселье. Толстый и одновременно подвижный, как колобок.
Их мама обожала русскую литературу и поэтому назвала мальчишек в честь литературных героев — Онегина и Печорина. Но насколько старшего невозможно было называть Женькой и даже Женей, настолько младшего язык не поворачивался назвать Григорием и даже Гришей.
У матери, по существу, жалоба была одна — что она со своими сыновьями не справляется. Старший капризный, ничем не интересуется, младший непоседливый, приставучий, в школе сплошные колы.
Отец на заре перестройки эмигрировал в Америку, внося с тех пор свой вклад в воспитание детей в основном поздравительными открытками. Причем праздники выбирал какие-то странные: то с Хэллоуином поздравит, то с днем святого Валентина, «покровителя влюбленных».
Справедливости ради надо отметить, что папа готов был уехать всей семьей, но мама с несвойственной ей резкостью отвергла эту возможность. Она была насквозь пропитана русским культурным воздухом — можно даже сказать, сотворена из этого воздуха — и не мыслила себе жизни ни в какой другой стране. Хотя сегодня ей и дома приходилось несладко. Когда она объясняла, что органически не может заниматься коммерцией, было совершенно понятно, что она говорит чистую правду. У нее действительно была другая органика. Она работала в доме-музее одного из русских классиков и сама казалась фигурой из того прошлого, где были «дворянские гнезда» и вишневые сады. Наверно, она и в советской жизни выглядела несколько старомодной. Но тогда это было, скорее, трогательно. Сейчас же, на фоне новой жизни, Вера сделалась безнадежным анахронизмом, и если это и трогало, то не в первую очередь. А в первую очередь охватывал ужас: как она, такая, с двумя детьми на руках сегодня выживет? Казалось, реальность повергла ее в состояние шока, и в результате этого шока Вера впала в анабиоз: замедленные движения, замедленная речь, панический страх при необходимости что-то поменять, хоть чуть-чуть отклониться от привычного жизненного маршрута.
А отклоняться было необходимо, и как можно скорее! Ведь мальчишки питались в основном перловой кашей, и, несмотря на все попытки матери пробудить в них духовные устремления, устремлялись душой только к ларькам, где продавали фрукты и сладости. Это очень отчетливо проявлялось в театральных этюдах, которые они разыгрывали на наших занятиях. Помнится, им нужно было показать сценку, как ночью, во сне, каждому из них явилась фея, которая пообещала выполнить любое их желание. И при всем своем несходстве братья проявили поразительное единодушие. И тот, и другой попросили у феи... бананов! Только Евгений попросил три штуки, а Гришка целый килограмм! (Это произошло несколько лет назад, когда бананы еще были неким мерилом детского благополучия.) А ведь братьям было не три и два, а тринадцать и двенадцать — возраст, в котором дети мечтают о чем-то более интересном и менее приземленном!
Веру приземленность ее детей выводила из себя.
— Я что угодно готова простить, только не это плебейство! Интеллигентному человеку должно быть все равно, что он ест, во что он одет... Была бы крыша над головой!
— А что, ребята всегда были так зациклены на еде? — спросили мы.
Вера задумалась, а когда вновь заговорила, в ее голосе звучало удивление, как будто она поняла нечто для себя неожиданное.
— Вообще-то, вы знаете, нет... Вот я сейчас вспоминаю... Нет! Им было совершенно все равно... Евгений любил читать, оба с удовольствием ходили со мной на экскурсии... Боже мой! Как они деградировали! — добавила она с ужасом.
А нас ужаснуло другое. Взрослая, умная женщина не выстраивала простейшую причинно-следственную связь: повышенный интерес ее детей к пище был прямым результатом того, что пища стала убогой и однообразной.
Но, казалось бы, после того, как Вера это поняла (вернее, не поняла, а вынуждена была под нашим нажимом впустить в сознание), она должна была бы смягчить свое отношение к детям. Ведь они были не виноваты в том, что работа в музее теперь не давала возможности нормально жить.
Однако все случилось ровно наоборот! Раздражение матери росло, и, соответственно, росла неуправляемость детей. Выражалась она, правда, по-разному. Евгений с порога отвергал любые Верины инициативы, демонстративно зевал, когда она заводила разговоры «о высоком» и смотрел по телевизору самые глупые и пошлые передачи, уверяя, что они ему очень нравятся. Гришка же вел себя, как непослушный щенок: разбрасывал по всей комнате вещи, прогуливал уроки, огрызался и вообще стоял на голове. Было такое впечатление, что его ужасно пугало немотивированное раздражение матери, и он (неосознанно, конечно) своими выходками хотел его замотивировать. Ведь так тяжело чувствовать, что тебя не любят непонятно за что!
Но самое обидное, что эта женщина как раз очень любила своих детей! Просто бессилие перед Голиафом наступавшего капитализма оборачивалось невольной агрессией против сыновей, которые были для нее постоянным укором.
— Я в этой реальности типичный изгой. Люмпен, как теперь принято выражаться. Я ничего, поверьте, ничего не могу для них сделать! Умная ненужность. Господи, если б можно было отправить их к отцу в Америку! Но он женился, они ему не нужны,— с отчаянием воскликнула она в одном из разговоров с нами и расплакалась.
Дети нетерпеливо заглядывали в комнату, где мы сидели, а она, не оборачиваясь, звонким от слез голосом бросала:
— Отстаньте! Сейчас!
...Вере мы помогли — устроили ее в частное издательство. Хотя и там ей было неуютно, ведь приходилось редактировать всякую ерунду, а иногда и откровенную непристойность.
Так что Евгений уже с полным правом мог приносить домой журналы с обнаженными топ-моделями. Он же видел, с какими текстами работала по вечерам его мама! Но во всяком случае, питались дети значительно лучше, и главное, мать прекратила терзаться чувством вины. В семье стало поспокойней.
Правда, с любимой работой в музее пришлось расстаться, и когда мы через несколько месяцев снова встретились с Верой, она произнесла горькие слова:
— Меня больше нет. Вы скажете, это жертва во имя детей. Но знаете, у меня такое чувство, что мы все трое принесены в жертву. Неужели все это только ради того, чтобы бывшие партработники стали нефтяными баронами? Какая непроходимая пошлость! Если б я знала, я бы не заводила детей...
— И правильно! Нечего плодить нищету! — наверное, воскликнули бы, услышав ее слова, сторонники «планирования семьи».
Но за чертой бедности у нас сейчас около трети (!) детей. Их что, всех не надо было «плодить»?! А может, целесообразнее «спланировать» другую власть, не отягощенную психологией «человека из подполья»? Чтобы она не рассуждала, как герой Достоевского: «Свету провалиться, а чтоб мне чай пить».
Лиза
Родители Лизы были совершенно ошарашены, когда выяснилось, что их дочь уже две недели не посещает школу. Ведь она каждое утро собирала рюкзак и уходила, появляясь, как и положено, после шестого или седьмого урока. Правда, делала ли она уроки, родители не проверяли. За семь школьных лет они привыкли не контролировать Лизу. Училась она блестяще и времени на домашние задания почти не тратила.
Звонок учительницы раздался днем, когда Лизы не было дома, и отец с матерью долго спорили, кто будет объясняться с дочерью. Оба они настолько ей доверяли (и до сих пор она это доверие оправдывала), что ни тот, ни другой не знали, как теперь к ней подступиться. В конце концов решили поговорить вместе.
Разговор получился недолгим. Лиза не лгала, не отпиралась, но на вопрос «почему?» ответить не захотела. Сказала только, что в школу она вообще больше не пойдет. А экзамены за седьмой класс сдаст экстерном. В восьмой, впрочем, тоже не пойдет. Еще сказала, что она даже рада, что родители знают правду, а то ей ужасно надоело по полдня скитаться по улицам.
Естественно, в школу пришлось пойти Лизиной маме. Педагоги были потрясены, когда узнали, что Лиза вовсе не болела, а две недели прогуливала. Одна из лучших учениц! Никогда никаких проблем, и вдруг...
— Да... Сейчас такое время, что от кого угодно можно ожидать чего угодно,— горестно вздохнула находившаяся в учительской преподавательница биологии.— Почитайте газеты! Сплошь и рядом дети из культурных семей становятся наркоманами, ворами, проститутками. Интересно еще узнать, что ваша Лиза делала, когда вы думали, что она сидит на уроках.
Однако бурное обсуждение в учительской не привело ни к каким конкретным результатам. Для матери так и осталось загадкой, что отвратило ее дочь от школы: оценки хорошие, отношения с учителями нормальные, в классе, как утверждали педагоги, ее никто не обижал. Неужели биологичка права, и Лиза пошла по кривой дорожке?
С этими печальными мыслями мать спускалась по школьной лестнице и уже у выхода столкнулась с Оксаной, Лизиной соседкой по парте.
— Лиза скоро придет? — спросила Оксана.
— Не знаю. Пока что она вообще не хочет ходить в школу... Послушай, может, Лизу кто-то обидел? Вы все-таки рядом сидите. Может, ты что-то заметила?
Оксана помотала головой, но при этом густо покраснела.
— Ну что ж,— печально улыбнулась Лизина мать.— Никто ничего не знает, виноватых нет. Только вот что делать, непонятно.
...Оксана догнала ее на троллейбусной остановке. Вид у девочки был встрепанный и смущенный.
— Я знаю, что случилось. Только вы, пожалуйста, меня не выдавайте. А то скажут «стукачка»...
Далее последовал сбивчивый рассказ, из которого мать постепенно уяснила, что в школе был проведен экспериментальный урок по сексологии. Двенадцатилетних детей просветили насчет устройства и функций половых органов, рассказали, что такое эрогенные зоны и «безопасный секс», а в конце урока показали презерватив.
Лизина мать вспомнила, как совсем недавно к ее дочери пришли на день рождения три одноклассницы, и весь вечер они с восторгом играли в жмурки. А еще вспомнила, что Лиза до сих пор засыпает с плюшевым мишкой...
— Ой, стыдно так было! Ужас! — говорила Оксана.— Девчонки вообще не знали, куда деваться. А Гребешкова — она с пятого класса за мальчишками бегает — подговорила Конякина нарисовать... ну, это... что у женщин... у нас на доске картина висела... А внизу Конякин подписал Лизину фамилию и по рядам пустил.
Лизина мама вернулась в школу.
Оказалось, что урок «полового воспитания» проводила та самая преподавательница биологии, которая полчаса назад разглагольствовала о криминализации подростков из культурной среды.
— Как вы могли?! Какое вы имели право обсуждать с детьми интимнейшие и к тому же совсем не детские проблемы? — задыхаясь, спрашивала ее Лизина мать.— Кто вам позволил?
— Вы, пожалуйста, на меня не кричите, иначе вам придется покинуть помещение,— невозмутимо ответила учительница.— Мы получили санкцию окружного департамента образования. Нам дали программу, ее писали вполне компетентные люди... И потом, скажите на милость, что тут такого? Половые органы — это так же естественно, как голова, нога, ладонь! Вы же не стыдитесь своей ладони?!
И она поднесла к самому лицу Лизиной мамы растопыренную пятерню.
Однако мама тоже оказалась не робкого десятка, и, хотя муж советовал ей не связываться, она подняла в школе шум. Оказалось, что родители понятия не имели о новом школьном предмете, поскольку дети стеснялись об этом рассказывать дома. А еще оказалось, что школа, введя такой предмет без согласия родителей, грубо нарушила их права... Короче, смелый эксперимент пришлось прекратить.
Но Лиза в школу так и не вернулась.
Она даже не сразу перешла в другую, потому что всю весну пребывала в состоянии тяжелой депрессии: перестала улыбаться, не выходила из дома, часами могла сидеть на диване, уставившись в одну точку. А когда мать пыталась ее растормошить, вдруг горестно восклицала, неизвестно к кому обращаясь:
— Зачем вам, взрослым, нужно было все разрушить?!
И только через год, случайно найдя Лизин дневник, мать поняла весь драматизм этого восклицания и запоздало ужаснулась.
Оказывается, Лиза была тайно влюблена в своего одноклассника.
«Он тоже смотрел и смеялся... Ненавижу себя за трусость, за то, что тогда не решилась и до сих пор живу с этим»,— было написано в дневнике.
Маша и Леша
Популярные некогда разговоры о детской акселерации в последнее время утихли. Медики даже наблюдают сейчас обратное явление. По-научному оно называется «децелерация», то есть замедленное психофизическое развитие. Во всяком случае, Машу никак нельзя было назвать акселератом. Она даже и для своего-то возраста была не очень развита. Но при этом ее информированность в вопросах пола выходила далеко за возрастные рамки.
Причем нельзя сказать, что она родилась с этим интересом. Родители немало потрудились над тем, чтобы его сформировать. Ребенок должен знать правду, считали они. Пусть он лучше узнает ее от нас, чем в подворотне. Это мы росли зажатыми, закомплексованными, до всего своим умом доходили.
Поэтому когда пятилетняя Маша спросила, как и положено в ее возрасте, откуда берутся дети, родители не ограничились кратким ответом «у мамы из животика», а достали с полки красочно иллюстрированный первый том «Детской сексуальной энциклопедии» (от четырех до шести лет).
— Мама, что такое презерватив? — спросила девочка год спустя, увидев рекламу «безопасного секса» по телевизору.
«Совки» обычно в такой ситуации теряются и мычат что-то невразумительное. Но Машины родители были люди современные и объяснили все как есть. А когда через неделю выяснилось, что Маша все же недопоняла, какую часть тела вышеупомянутое изделие призвано обувать, папа провел еще одну политбеседу. Хотя от показа воздержался: видно, помешало ханжеское воспитание.
Потом Маша посмотрела передачу про лесбиянок. Потом принесла из школы подростковый журнал «Cool» (что значит «Крутой»). Маму, правда, шокировали некоторые фотографии и советы девочкам, как нащупать у себя некую эрогенную точку «G», но она не стала вмешиваться. Мало ли что в ее время считалось неприличным? Сейчас другое время и другие нормы. (В том же журнале был и такой заголовок: «Неужели ты в тринадцать лет все еще девственница?».)
Мама с папой занимались и самообразованием. К счастью, новая жизнь предоставляла для этого массу возможностей. Газеты, журналы, а также видеофильмы, которые эти газеты и журналы советовали посмотреть вместе на ночь, чтобы взбодриться. Машиным родителям, правда, взбадриваться было еще необязательно, но они как-то втянулись. Да и сексуальную культуру надо было повышать. Сколько можно жить дикарями? Маша тем временем перешла во второй класс.
Училась она вяло, на тройки. Читать не заставишь. Впрочем, и не особенно заставляли. Чтение ей заменяли сериалы. Маша смотрела сразу несколько, знала всех героев по именам и никогда не путала, кто кого любил и кто кого убил. Родителей это немного огорчало, ведь они были интеллигентные люди, но отец говорил, что мир изменился, а значит, изменились и способы передачи информации. А мать успокаивала себя тем, что ребенок усвоит из этих сериалов современные и в то же время правильные модели поведения. Да, конечно, там мелькают и другие примеры: проститутки, сексуальные маньяки, наркоманы, воры и убийцы. Но дети ведь все понимают и выбирают для подражания то, что подходит именно им! Не нужно ничего навязывать, ребенок лучше нас знает, что ему близко.
Из предложенного многообразия восьмилетняя Маша выбрала то, что раньше называлось «французской любовью», а теперь именуется более прозаично — «оральный секс».
Дело было на даче, куда Маша приехала погостить к своему десятилетнему кузену Леше. С ним и попробовала. Ночь была прохладной, и Машина тетя потихоньку, боясь разбудить детей, зашла в комнату, чтобы укрыть их вторым одеялом. Дети своеобразно бодрствовали. Ими отрабатывалась одна из возможных моделей поведения.
Несмотря на то, что Машина и Лешина мамы были родные сестры, вторая оказалась куда консервативнее первой. Малолетних любовников отстегали ремнем. Леша ревел в три ручья и обвинял в своем грехопадении «противную Машку», которая давно приставала к нему «со всякими глупостями». А «противная Машка» была искренне возмущена жестоким наказанием.
— Ты не имеешь права! — кричала она тетке. — Я ничего плохого не делала! Это даже в кино показывают!
И заявила экстренно вызванным на дачу родителям, что больше сюда не приедет.
Впрочем, ее больше и не приглашали.
Пока такие случаи не носят массового характера, а главное, большинство детей, совершая что-то постыдное, чувствуют свою вину. Но работа по «снятию стыда» идет полным ходом. Наше общество стараются приучить к тому, что дети и секс — вещи вполне совместимые. «Если ребенка не насилуют, а просто раздевают, мастурбируют или заставляют что-то делать с половыми органами взрослого, это может вызывать у ребенка не столько страх, сколько приятные эротические ощущения, заставляя еще сильнее полюбить совратителя,— пишет апологет детского секса И.С. Кон.— Эротическая игра, мастурбация, прикосновения к половым органам часто воспринимаются ребенком положительно... Дайте вашим детям социальную защиту, материальное благополучие и, самое сложное, уважение и любовь, и тогда добычей случайных мужчин-педофилов будут только те дети, которые сами этого захотят (выделено нами.— Авт.), причем у них будет свобода выбора».
Так что если развращение несовершеннолетних окончательно утвердится в качестве государственной идеологии (а это произойдет, если в школах введут-таки секспросвет!), то негодование Маши станет вполне оправданным. А ее тете могут даже грозить «суд, Сибирь, тюрьма».
Гоша
Гоша выглядел как матерый рок-певец: на голове красная косынка с черепами, пальцы в тяжелых перстнях (тоже с черепами). Штаны, заботливо разорванные на коленках, украшали гирлянды стальных булавок. Рубашка с одним рукавом. Голая рука разрисована цветными татуировками, в нагрудном кармане плеер.
Было ему при этом всего семь лет.
Когда это маленькое пугало входило с мамой в метро, в вагоне неизменно возникало замешательство. Люди переводили взгляд с него на прилично одетую и нормально причесанную молодую женщину, потом опять на него и совершенно не понимали, что это за пара. Меньше всего они были похожи на сына и мать.
Посторонние еще больше бы удивились, если б узнали, какова профессия Гошиной мамы. А ее профессия имела прямое отношение к детям, к их поведению и развитию: она была детским психологом. Хотя если вспомнить русскую пословицу «Сапожник без сапог», то удивляться не приходится. Особенно если учесть, какие веяния распространились в последние годы в психолого-педагогической среде.
— Гоша не терпит ни малейшего прессинга, понимаете?! Он как бы с первых дней был личностью. Я чувствую, что не имею права оказывать на него давление. Он как бы отдельный, давно сформировавшийся человек. База личности к трем годам формируется полностью. Это научный факт, понимаете?!
Но окружающие не понимали. Не понимали, что, когда Гоша хамит, им надлежит кротко молчать, а когда он несет ахинею, вмешиваясь в разговор взрослых, они должны умиляться и выражать восторг перед его недюжинным умом.
Поэтому Гошу с трудом выносили даже близкие родственники. О нянях и детсадовских воспитательницах и говорить было нечего. В сад Гоша сходил всего один раз, и то на полдня. Когда он во время обеда начал лупить ложкой по тарелке с супом и не реагировал на замечания воспитательницы, его вывели из-за стола. Такого насилия над личностью Гоша не потерпел. Ну а мама, естественно, не посмела его принуждать.
После этого Гоша перебывал во множестве кружков и студий. Как правило, больше трех раз он не выдерживал. А его и подавно не выдерживали. Как только к Гоше предъявлялись требования, даже самые минимальные, его свободолюбивая натура начинала бунтовать. «Скучно», «противно», «надоело» — так он обычно объяснял свой негативизм. Хотя на самом деле ему могло быть поначалу очень интересно, но своеволие всегда перевешивало любой интерес. В результате «свободно развивающаяся личность» развивалась все хуже и хуже. Однако ученая мама и этому находила объяснения:
— Да, он не вписывается ни в какие рамки! Но они ему и не нужны! А в школу мы Гошу отдавать не будем. Школа только калечит человека, делает из него посредственность. Мы с мужем сами будем Гошу учить. Муж у меня как бы математик, так что он возьмет на себя все точные науки. А я буду заниматься с Гошей языками и литературой.
Как бы домашнее как бы образование длилось недолго. Через пару недель Гоша начал бурно самовыражаться, посылая родителей в задницу. (Сие изысканное выражение он почерпнул из зарубежных мультфильмов.) Родители развели руками и оставили его в покое.
— Гоша совершенно не приемлет все эти причинно-следственные связи. У него неевропейский склад мышления, понимаете?! Он как бы стихийный дзен-буддист.
В общем, учеба как-то не пошла, зато стихийный дзен-буддист увлекся тяжелым роком. И, естественно, потребовал атрибуты, соответствующие этому увлечению. Родители внутренне вздрогнули, но ослушаться не посмели и приобрели.
Гоша уже предвкушал, как он целыми днями будет балдеть в наушниках, но тут неожиданно вмешался дедушка.
— Ребенок должен ходить в школу! — заявил он.
А поскольку это был не просто дедушка, а финансист молодой семьи, неповиновение грозило снятием с довольствия. Так что пришлось покориться.
Впрочем, школьная эпопея длилась недолго. За год Гоша побывал в четырех учебных заведениях (в трех государственных и одном частном), но всюду его признали неуправляемым. В последнем, где Гоша «врубал» на уроках магнитофон на полную катушку, матери прямо было сказано о необходимости обратиться к психиатру.
Возмущению профессионального психолога не было предела:
— Им самим лечиться надо! Они хотят, чтобы дети ходили строем, как в казарме! Яркие, самобытные личности им не нужны. Они же неудобны, понимаете?! Вот таких, как Гоша, и записывают в сумасшедшие.
Она права была лишь в одном: психически больным Гоша исходно не был. Однако в помощи психиатра уже нуждался, ибо любое его столкновение с миром неизменно заканчивалось неудачей. А это, естественно, усугубляло чувство отверженности. И сколько бы мальчику ни внушали, что он исключительный, а мир плохой и его недостоин, он, конечно же, получал травму за травмой. Ведь чем старше становился Гоша, тем больше он нуждался в признании окружающих, не только родителей. Но с такими уродливыми стереотипами поведения на это невозможно было рассчитывать.
Или нет, почему же? Возможно, если только окружающие — дворовые хулиганы. Но Гошины родители от этого вряд ли пришли бы в восторг...
Историю этого мальчика мы рассказали потому, что она сегодня перестает быть частным случаем. То, что совсем недавно было фрондерством богемной интеллигенции (вполне понятным и даже полезным, поскольку оно хоть чуть-чуть уравновешивало чопорность застойных времен), теперь сделалось «достоянием масс». Поощрение своеволия — одна из главных составляющих сегодняшней идеологии. От скольких родителей мы слышали, что они не могут отнять у ребенка порнографический журнал или выключить телевизор, если там показывают что-то, не предназначенное для детских глаз и ушей! Не могут «из принципа», ибо для них главное — чтобы не было запретов!
Одна мама договорилась даже до того, что ее сын обязательно попробует наркотики, она в этом ни капли не сомневается. Ведь запрещать все равно бессмысленно! Ей только хочется надеяться, что он не привыкнет. Впрочем, по ее тону было понятно, что в случае необходимости она смирится и с этим. А сыну-то ее было неполных пять лет! Он и слова «наркотики» пока не знал, а она уже готовилась принести его в жертву на алтарь свободы. Свободы стать наркоманом и рано умереть.
И то, что Гошина мать — психолог, лишь на первый взгляд кажется анекдотичным. Именно психологи наряду с масс-медиа стали проводниками идеи своеволия. «Нужно принять и полюбить себя таким, какой ты есть»,— внушают они на всевозможных тренингах. Вот только окружающие совсем необязательно полюбят тебя таким, со всеми твоими гадостями, со всеми твоими психическими шлаками.
И получается, что, вроде бы ориентируя человека на свободу, его загоняют в клетку одиночества, в барак изгойства, который впоследствии нередко становится уже не метафорическим, а реальным бараком, битком набитым уголовниками. Учитывая же популярность установок на «свободное воспитание», барак в недалеком будущем может расшириться до размеров страны.
Сева
Отца своего Сева не знал.
Мать считала, что отец ребенку вообще необязателен. А уж такое ничтожество — и подавно.
— Я ему и отец, и мать,— с некоторым вызовом говорила она знакомым.— А мужики... кому они нужны?! Что они могут? Импотенты они! И духовные, и физические! Зачем детям в семье отрицательные примеры? А главное — для чего взваливать на себя такую обузу?
У мамы и подруги подобрались бойкие, независимые. В основном незамужние или разведенные. Этакие современные амазонки. Они и вправду все умели делать сами: водили машину, чинили проводку, зарабатывали ничуть не меньше, а то и больше мужчин.
Мама была очень гостеприимна, и кто-нибудь из ее подруг обязательно у них жил. Квартира была небольшая, двухкомнатная, но на Севину комнату никто никогда не посягал. Ему даже нравилось, что у них люди. Если мама задерживалась на работе, тетя Галя или тетя Валя кормили его ужином, болтали с ним, укладывали спать. Словом, он не был обижен вниманием.
Правда, мама отличалась нелегким характером, поэтому пламенная дружба в какой-то момент оборачивалась не менее пламенной ненавистью и слезами очередных тети Гали и тети Вали. Они яростно швыряли вещи в чемодан и, хлопнув дверью, исчезали навсегда. Но вскоре в доме поселялась другая тетя: мама очень ценила женскую дружбу.
Такая смена лиц продолжалась, пока мама не повстречала тетю Женю. Мама в ней души не чаяла. Как-то раз она долго искала и наконец нашла одну старую пластинку.
Мужской голос пел:
Почему ты мне не встретилась,
Юная, нежная,
В те года мои далекие,
В те года вешние?..
— Почему? — воскликнула мама, обращаясь к тете Жене, и в ее голосе звучали слезы.
«Бедная мама,— подумал Сева.— Наверное, у нее раньше не было настоящих друзей».
Мама и тетя Женя были неразлучны, ведь они и работали вместе.
Однажды Сева,— было ему тогда одиннадцать лет,— вернувшись из школы, делал уроки. В доме больше никого не было. Вдруг раздался телефонный звонок.
— Севка! Включи третью программу! Быстро! — скомандовал приятель.
Сева бросился к телевизору. На экране были мама и тетя Женя. А еще красивый молодой ведущий.
Севе было ужасно обидно, что он включил не с самого начала и из-за этого не очень хорошо понимал, о чем они говорят. Мама заметно волновалась, а тетя Женя, наоборот, говорила с такой спокойной улыбкой, как будто не выступала по телевизору, а просто так беседовала со знакомым.
— И у вас никогда не возникало потребности в мужчине? — спрашивал ведущий.
Мама только отрицательно помотала головой, а тетя Женя с готовностью ответила:
— Видите ли, я долго не осознавала своей сущности... Была в плену у дурацких предрассудков. И в то время мне казалось, что да, я должна, как все женщины, стремиться к замужеству, искать своего героя, свою половинку. А потом я случайно попала в женский клуб «Сафо», и там мне все объяснили. Оказывается, у меня просто другая ориентация, другие склонности. Только и всего!
И тетя Женя взяла маму за руку.
— А как на ваши отношения реагируют окружающие? — спросил ведущий.
— Нас это не волнует,— угрюмо ответила мама.
А тетя Женя добавила:
— Да это вообще всё условности, вопрос чисто вкусовой! Вот вы, например,— и она посмотрела на ведущего,— любите яблоки. Но вам же не придет в голову осуждать того, кто любит груши. Или, скажем, бананы. Так и здесь!
— Блестящий ответ! — похвалил ведущий. — Я счастлив познакомиться с такими умными людьми!
Потом была рекламная пауза, а после нее ведущий спросил, обращаясь к маме:
— У вас, кажется, есть сын?
— Да! — ответила за нее тетя Женя.— Это наш общий сын.
— Вот как? — усмехнулся ведущий.— Неужели наука достигла таких вершин?
— Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю! — немного обиделась тетя Женя.
А мама сказала:
— Какая чудовищная несправедливость, что я не могу пока что по нашим законам создать сыну полноценную семью. У него официально должны быть две матери. Мало ли, что со мной может случиться?
Но тут ведущий ее перебил и сказал, что эфирное время кончается.
После этой передачи был сериал. Сева вообще-то сериалов не смотрел, однако в тот раз еще долго сидел перед экраном, пытаясь собраться с мыслями. Он мало что понял из телебеседы. А главное, он не понял, почему мама и тетя Женя не предупредили его, что их будут показывать по телевизору. Можно подумать, что такое каждый день случается!
Но спросить их об этом Севе так и не удалось, потому что взрослые в тот вечер припозднились, и Сева лег, не дождавшись их прихода. А утром ушел в школу, когда они еще спали...
— Слушай, а как твоя мамаша с подружкой этим занимаются? — громко, на весь класс поинтересовался отпетый хулиган Витька.
Сева даже не сразу сообразил, что вопрос адресован ему.
— Не приставай к человеку! — заступилась за него сердобольная Вера.— Ему и так тяжело. Сев, не обращай внимания.
— Да я просто хочу знать,— не унимался хулиган,— кто из них за бабу, а кто за мужика. Сев, они что, пластиковый... используют?
Класс грохнул.
Не помня себя, Сева выбежал на улицу...
Его искали долго и обнаружили через несколько месяцев в другом городе. Расстаться с беспризорной жизнью он был готов, но домой вернуться не пожелал. Пришлось определить его в интернат.
Костя
Дети очень рано научаются на провокационный вопрос: «Кого ты больше любишь?» — дипломатично отвечать: «Одинаково». Но на бумаге они лукавить не умеют, и, когда изображают семью, часто обнаруживают свои истинные предпочтения.
Костя же, когда был маленький, вполне искренне мог сказать, что он любит родителей. Любит одинаково сильно и в то же время по-разному, потому что они сами очень разные, его папа и мама. Папа у него мысленно ассоциировался с образом богатыря, потому что так назывался магазин, где ему покупали одежду и обувь — в обычном не было таких больших размеров. И как полагается настоящему богатырю, он был немного медлительным и немногословным.
— Серега — это скала,— говорили папины друзья.
— Ты за ним как за каменной стеной,— говорили мамины подруги.
Однажды Костя с папой были в музее и увидели здоровенный гипсовый след снежного человека. Костя посмотрел на папины ботинки сорок седьмого размера и подумал: «Может, мой папа тоже снежный человек? Снежная скала...».
Во дворе Костю никогда не обижали, хотя он рано стал гулять один. Кто же решится тронуть мальчика, у которого такой сильный папа?
А еще папа ездил в геологические экспедиции на Тянь-Шань и привозил оттуда разные породы камней. Их было так много в квартире — на стеллажах с книгами, на шкафах, на письменном столе... Можно было выстроить целую каменную стену!
Папа обещал, когда Костя немного подрастет, взять его в «поле» (так почему-то было принято называть летние экспедиции, хотя ездили в горы). Костя был уверен, что он тоже станет геологом, и они с папой будут вместе искать ценные породы.
За «каменной стеной» жила маленькая мама. Ее присутствие в доме всегда было связано с множеством одновременных звуков. В ванной лилась вода, на кухне бубнило радио и булькал суп, из комнаты доносился стук пишущей машинки. И по всей квартире, как ветер, гулял мамин девчоночий голос. Он отвечал по телефону, звал к столу, рассказывал папе про новый (потрясающий!) спектакль. (Мама была театроведом и посещала все премьеры, это называлось «отсматривать».)
Не было слышно только звука маминых шагов. Она как будто и вовсе не перемещалась, а посылала включать воду, печатать на машинке и даже говорить по телефону своих бестелесных двойников. Мама была очень шустрая. Когда из магазинов исчезли продукты, они с Костей занимали сразу несколько очередей и ухитрялись наполнить хозяйственную сумку «дефицитом». Вообще, мама умела к разным бытовым трудностям относиться «с весельем и отвагой». И преодолевать их играючи, превращая дело в забавное приключение. Ее называли легким человеком, а их с папой — идеальной парой.
Костя знал, что ему повезло с родителями, и чувствовал себя счастливым...
Первую брешь в «каменной стене» пробило лето 1992 года.
— Все, с полем придется завязывать. У Ельцина нет денег на геологию,— угрюмо сообщил папа, вернувшись однажды с работы.
Все лето он не находил себе места, тщетно пытаясь обрести его то в библиотеке, то на рыбалке. Помимо всего прочего семья лишилась довольно приличной суммы, которую папа получал за летнюю работу в особо трудных условиях. И это его тоже расстраивало, ведь он привык быть кормильцем семьи.
Денег между тем перестало хватать даже на скромную жизнь.
— Серега, ты бы подумал о каком-нибудь заработке,— сказала, не выдержав, мама.— А то при всем моем философском отношении я прямо не знаю, на что мы будем жить. Не на мои же театральные рецензии!
Папа не задумался, нет! Он, как и полагалось богатырю, закручинился. Но искать приработок почему-то не побежал. Суетливость ведь не богатырская черта.
Очередей теперь не было и в помине, но мама часто повторяла, что походы в магазин стали ей ненавистны. («Противно считать, сто или сто пятьдесят граммов я могу себе позволить!».)
Ее интонации, когда она обращалась к папе, делались все более и более раздраженными. Перестав чувствовать защиту, мама одновременно и перестала быть похожей на девочку. Новые спектакли уже не обсуждались, зато постоянно велись разговоры о друзьях и знакомых, которым удалось «перестроиться» и «вписаться». Мама особо подчеркивала в подобных разговорах достоинства «настоящих, ответственных за семью мужчин».
В ответ папа только мрачнел.
А один раз не выдержал и перебил ее на полуслове:
— Ну и выходила бы замуж за «настоящего»!
А мама в запальчивости закричала:
— Да уж конечно! И не думала бы сейчас, как выкроить на кусок сыра! Ребенка бы пожалел!
Мама расплакалась и опять стала похожа на девочку. На обиженную девочку.
А ребенку — к тому времени ученику третьего класса — было в эту минуту больше всего на свете жалко родителей. Но не одинаково. Папу было жальче. Девятилетний мужчина нутром ощутил унижение сорокалетнего.
Дальше пошло-поехало. Папе в его институте платили копейки, да и то нерегулярно. Мама крутилась как белка в колесе, подрабатывая, где только можно, но когда предлагала заняться тем же самым отцу, выяснялось, что все очень сложно. Он не мог стать ни маклером, ни агентом турбюро. А однажды, когда она в отчаянии сказала: «Если ты ничего не можешь, иди расклеивать объявления», он так оскорбился, что не разговаривал с ней целую неделю.
При этом папа вовсе не был лентяем! Даже наоборот, будучи геологом, он старался как можно больше ответственности брать на себя. И не один год ездил в экспедицию начальником. Да и научной работой мог заниматься день и ночь. Однако, выброшенный в чужую для него жизнь, он задыхался. И обвинять его в этом было жестоко.
Но жестоко было и оставлять Костю, который вступил в это время в полосу бурного роста, без полноценного питания и ботинок по размеру. Мама поняла, что рассчитывать можно только на себя. За три года она перепробовала множество самых разных работ: преподавала в частной гимназии, готовила в театральные вузы, пыталась устроить артсалон, возила иностранцев на экскурсии и в конце концов организовала турфирму.
С деньгами теперь все было в порядке. А вот с мужем... Она старалась не подчеркивать свою успешность, не попрекать его. Но как-то само собой выходило, что поводов для попреков становилось все больше и больше. То вернувшись из командировки, она заставала дома полный разгром, то муж загуливал с друзьями и приходил «на бровях», то забывал купить картошку, то не вовремя шутил или был, наоборот, мрачен, когда ей хотелось посмеяться...
А самым, пожалуй, обидным было то, что муж ей не сочувствовал. Раньше, когда она расстраивалась даже по пустякам, он всегда ее утешал. А теперь делал вид, что не замечает, или даже раздражался. Взвалив на себя неженскую ношу, она перестала быть для него слабым полом, перестала быть женщиной.
И еще она с ужасом замечала, что сын подражает в этом отцу. Став подростком, Костя помогал ей гораздо меньше, чем когда был маленьким. Заболев, она могла целый день пролежать в кровати, а сын заглядывал к ней в комнату только с вопросом, что ему съесть на обед. И вообще, он стал каким-то инфантильным, безалаберным, даже постель свою убирать не желал. Сначала она списывала такую распущенность на переходный возраст, но время шло, а картина в лучшую сторону не менялась.
Утратив поддержку мужа, мама какое-то время тешила себя надеждой обрести ее в сыне. Но теперь все отчетливей понимала, что этому не суждено сбыться. Напряженная работа не позволяла ей слишком часто предаваться унынию, но порой ее охватывала нестерпимая тоска. Окружающим она казалась очень благополучной женщиной (в ее кругу мало кто смог так устроиться). И только она знала, что вместе с «каменной стеной» рухнуло все: любовь, семья, нормальное воспитание сына...
Подобные истории часто заканчиваются разводом, но мы намеренно не обозначаем концовку, потому что она, на наш взгляд, непринципиальна. Гораздо важнее то, что у этого мальчика и у многих-многих других мальчиков было отнято счастье жить в нормальной семье, где роли не перепутаны, где все на своих местах.
Вы скажете: «Кто его заставляет копировать поведение отца? Может быть, он повзрослеет и поймет, что это вовсе не образец для подражания!».
Да, но что в этом хорошего? Ведь тогда Костя вынужден будет откреститься от самого близкого, любимого и в общем-то очень достойного человека. Человека, который все детство был для него идеалом.
Если же он будет по-прежнему подражать отцу, то беспомощность, которая того охватила в результате жизненного слома, станет у Кости неотъемлемой чертой характера и сама уже спровоцирует жизненный слом. Его будущим жене и детям не позавидуешь. Равно как и государству, населенному такими гражданами. Сколько их будет, сказать нелегко, но когда видишь в метро и на вокзалах множество женщин-«челноков», груженых, как ломовые лошади, понимаешь, что настоящих мужчин в следующем поколении будет катастрофический недобор.
И не надо сравнивать с войной: дескать, тогда женщины тоже тянули лямку и за себя, и за мужиков. Мужики воевали, а значит, были сверхположительным, героическим примером для своих сыновей. Примером отца, который отвечает не только за свою семью, но и за целую огромную страну.
Володя
Урок истории в 11 «Б» как-то незаметно перерос в политический диспут. Было это в разгар учебного года и в разгар чеченской войны. Историчка, она же классный руководитель, завела разговор о том, кто как представляет себе свое ближайшее будущее, и выяснилось, что из семнадцати мальчиков ни один (!) не собирается идти в армию.
— А если кто-то из вас не поступит? — спросила классная.
Ответы последовали разные, но все они сводились к одному: главное — «откосить» от армии. И родители костьми лягут, чтобы им в этом помочь.
Особую пикантность ситуации придавало то, что дело происходило в подмосковном военном городке и почти у всего класса отцы были военными. Мальчишки наперебой делились рецептами: как скрываться от повесток, как вести себя на медкомиссии, как проглотить кусочек шоколадки, чтобы рентген показал язву желудка, как симулировать «шизу». Кто-то даже похвастался тем, что купил книгу под названием «Как уклониться от призыва».
Учительница слушала молча, не перебивая. А когда все мальчишки высказались, спросила:
— Другие мнения есть?
— Есть! — вдруг подала голос самая красивая девочка в классе.— Трусы вы, вот и все! Типичные трусы! Вот такое мое мнение.
Что тут началось! Мальчишки, задетые за живое, да еще девочкой, о благосклонности которой многие тайно мечтали, с пеной у рта ринулись отстаивать свою правоту. (Ведь слово «трус» пока что воспринимается у нас как тяжкое оскорбление.) Недостатка в аргументах, конечно, не было. Вспомнили всё, вплоть до сталинских «заградотрядов» и лагерей, ожидавших наших солдат, когда они возвращались домой из немецкого плена. Выросшие в военных семьях, ребята много чего знали.
Но красавица с редким именем Алиса тоже не спасовала.
— Если бы наши дедушки в войну рассуждали, как вы, нас бы вообще на свете не было,— заявила она, и к ней присоединилось несколько других девчонок.
Еще немного — и весь класс втянулся бы в конфликт между полами, но тут прозвенел звонок.
Какое-то время страсти побурлили в коридоре, но с началом следующего урока утихли. Володя был единственным, кто промолчал в ответ на обвинение Алисы. Он и по характеру был довольно робким, а уж перед Алисой робел втройне. О том, что она ему нравилась чуть ли не с первого класса, знала вся школа, и в глубине души Володя был уверен, что это навсегда.
Алиса обвинила в трусости всех мальчишек, а ему показалось, что это обвинение обращено лично к нему. Да и высказалась она, решил Володя, исключительно ради того, чтобы больно его задеть.
На оставшихся трех уроках он думал только об одном: что нужно было ей ответить? Потом Володя долго шел за Алисой по пятам. Наконец, резко ускорив шаг, обогнал ее и бросил на ходу:
— В армию идут только дураки. Погибать за нефтяную трубу — это не храбрость, а идиотизм...
Следующие полгода Володя постоянно доказывал себе и окружающим, что он не трус. Увидит издалека компанию хулиганов — обязательно пройдет мимо, да еще шаг замедлит. Раньше он никогда не дрался, а теперь мог вернуться домой с «фингалом» под глазом. Он стал накачивать мышцы, в походке появилась несвойственная ему развязность, речь обогатилась слэнгом из арсенала «крутых». Он начал курить. И не тайком, а открыто, даже вызывающе. Родители всерьез волновались, как бы он не связался с дурной компанией.
Вскоре пришло время поступать в институт. Экзамены Володя завалил. Опасность «загреметь» в армию приближалась вместе с осенним призывом. Мать засуетилась в поисках знакомых врачей и заранее одалживала деньги на «благодарность». Искала она и подходы к военкомату, благо, кое-какие связи имелись.
— Вот и понадейся на этого лоботряса! — негодовала мать.— И с чего я взяла, что он должен обязательно поступить? Надо было, как делают умные люди, регулярно класть в больницу с двенадцати лет, фиксировать травму головы, собирать медицинские заключения... А, что теперь говорить! Всё как всегда на мне!
И она с вызовом смотрела на отца. Отец хмуро отмалчивался. А со стены на эти причитания взирал дедушка-полковник, умерший в год пятидесятилетия Победы.
Володя старался поменьше бывать дома. Тем более что у одного из приятелей появился компьютер, и они могли целыми днями играть в разные игры.
Алиса куда-то исчезла из городка. Наверно, уехала отдыхать, думал Володя. Впрочем, ему бы и не хотелось сейчас с ней встретиться. Ведь пришлось бы сообщить о неудаче с институтом...
Но вскоре встреча все-таки состоялась. Они столкнулись на пороге булочной.
— Привет! Ты где была?
— В Тюмени.
— К своим ездила? — догадался Володя, вспомнив, что у Алисы в тех краях родня.
— Да,— помолчав, ответила она.— У меня же там брат двоюродный был... А теперь нет. Убили.
Володе стало неловко, и он ляпнул первое, что пришло в голову.
— Что, разборки?
— Дурак ты! — вспыхнула Алиса.— Он в Чечне погиб...— И, презрительно усмехнувшись, добавила:— Хотя, что это я? Ты-то, Вовочка, как раз не дурак. Я совсем забыла... Дураки идут в армию. А ты у нас мальчик умный, рассудительный, с тобой все будет в порядке.
И, не дав ему ответить, ушла.
Дома Володя заявил, что от армии он бегать не будет.
— Ты что, с ума сошел? — испугалась мать. — Хочешь, чтобы тебе почки отбили? Отец! Скажи ему! Что ты молчишь как истукан?
— Тебе в армию нельзя. Характер у тебя не тот,— тихо сказал отец.
— Ах не тот?! А у тех, кого убивают, значит, тот? — взвился сын.
— Про этих ребят их родители должны думать. И вообще... пусть правительство своих детей и внуков на смерть посылает, а я тебя не пущу. Ты у меня один! — решительно заявила мать.
— Не спорь, сынок. Мама права. Никому эта Чечня не нужна,— отвернувшись к окну, произнес отец.— А ситуацию в армии я знаю изнутри. Это полный беспредел.
...Мамины хлопоты увенчались успехом. Володя безропотно выполнил все, что от него потребовалось, и получил освобождение от армии. А вскоре у него появилась девушка, с ней он познакомился на институтских подготовительных курсах. Жизнь пошла своим чередом, и если б не телевизор, который отец смотрел по вечерам, ее бы вообще ничто не омрачало. Слышать про Чечню Володе было неприятно, а об этом сообщалось в каждом выпуске новостей.
Впрочем, он нашел выход из положения: как только из другой комнаты доносился голос диктора, Володя надевал наушники, и тогда уже никто не мешал ему слушать его любимую группу «Квин»...
Можно сколько угодно усыплять себя разговорами, что нам никто уже не угрожает, что война снится только выжившим из ума патриотам и что впереди у России — бесконфликтное будущее, и торжество «добра без границ». Но не слишком ли рано забыты чеченская война, бои на таджикской границе, не просто горячие, а раскаленные точки Кавказа, да и многое-многое другое, свидетельствующее, увы, об обратном. И в этом контексте особенно двусмысленной выглядит беспомощность военного руководства в борьбе с «дедовщиной» и газетные заголовки типа «Начался весенний призыв на тот свет». Возникает простой вопрос: кто будет защищать «умных», когда все «дураки» поумнеют? Сегодня нам не нужна Чечня, не нужна нефть, завтра не нужна будет Сибирь, следующим тактом — Рязань и Владимир... Но такими темпами, глядишь, и вовсе не останется пространства. Даже для самых «умных». Так что им, бедным, негде будет, надев наушники, насладиться пением звезд современной эстрады.
Дато
Мама Дато пекла такие вкусные хачапури, что их раскупали мгновенно, они не успевали остыть. Все грузинские женщины хорошо готовят, однако не все на продажу пекут как для себя.
Но когда ее постоянные покупатели выражали восторг, Манана отвечала с грустной улыбкой:
— На рояле я тоже играла неплохо. Даже лауреатом двух международных конкурсов была...
Они приехали в Москву после грузинско-абхазских событий: Манана, ее муж и шестилетний Дато. В Абхазии муж был главврачом районной больницы, но в Москве ему пришлось срочно перепрофилироваться. К моменту нашего знакомства он уже был в ранге владельца продовольственного ларька. Они снимали двухкомнатную квартиру — по московским меркам довольно неплохо для семьи из трех человек. Но Дато требовал, чтобы ему вернули его дом.
— Вы поймите, ему и в четырехкомнатной квартире было бы тесно,— объясняла мать.— Дом — это совсем другое. Это окна на все четыре стороны. В одну сторону посмотришь — море, в другую — горы, окно его спальни выходило в мандариновый сад... а когда мы обедали на веранде, то могли разговаривать с соседями, они нам ближе родственников были... Где в Москве это возьмешь? Что делать, не знаю! Замучил меня мой Дато. Сны он видит про наш дом, рисует наш дом, сто раз в день меня спрашивает: «Зачем здесь живем? Почему не вернемся?».
В Москве грузинскому мальчику было плохо не только поэтому. У него были совершенно другие стереотипы поведения: то, что на Кавказе считалось проявлением здоровой мужской инициативы, которая всячески поощрялась с самого раннего возраста, в московской «песочнице» воспринималось как наглость. А южный темперамент, любовь к шумным играм, возне, борьбе на нашей почве выглядели драчливостью и отпугивали как детей, так и взрослых. Тем более что у Дато на живой от природы характер накладывалась повышенная возбужденность после пережитого стресса. Возбужденность, которую родители принимали за резвость, за непоседливость.
— Он у нас настоящий джигит, в прадеда пошел,— с гордостью рассказывал отец.— Рядом с нами бомбили, а он бегает, кричит, радуется, глаза сверкают. Дом сгорел на его глазах — а мой Давидик ни одной слезинки не проронил! Я его, между прочим, так назвал в честь нашего грузинского царя Давида Строителя.
И даже то, что мальчик начал сильно заикаться после пожара, не навело родителей на мысль, что под маской радости скрывались совсем иные чувства. Впрочем, когда живешь с человеком бок о бок, часто не улавливаешь даже вполне очевидных причинно-следственных связей. Отделить главное от второстепенного гораздо легче издалека. А уж в данном случае взрослым столько надо было держать в поле внимания, меняя всю свою жизнь, поворачивая судьбу, что их ненаблюдательность и вовсе неудивительна.
Дато и раньше был вспыльчив, а в Москве после всего пережитого стал прямо-таки нетерпим. Любое возражение, не говоря уж об отказе, вызывало у него приступ бешенства. В невинной шутке ему слышалось издевательство, он не желал играть по установленным правилам, не терпел очередности, отказывался водить и, не помня себя от ярости, вцеплялся в «обидчика» бульдожьей хваткой.
Когда соседский ребенок, не сошедший по первому требованию Дато с качелей, угодил в больницу с сотрясением мозга, родители запретили своим детям играть с драчуном, и за ним прочно закрепилась кличка «псих». А иногда звучали обидные высказывания и в адрес его кавказских кровей.
Дато с этим смириться не мог и объявил войну всему двору. Но, конечно же, был обречен на поражение. Дело кончилось тем, что маме пришлось держать его дома, где он томился, как тигр в клетке, и оттого становился еще более неуправляемым.
Родители не видели выхода. У них оставалась одна слабая, но все-таки надежда на школу. «Там дисциплина, там новые ребята, там голова будет занята»,— думали они. И действительно, первые школьные недели прошли относительно благополучно. Дато с увлечением готовил уроки под руководством мамы, рвался отвечать, рассказывал, как его хвалит учительница. Несмотря на новую ситуацию, он даже стал меньше заикаться!
Зато у отца дела шли неважно. Он несколько раз подряд промахнулся с товаром и «сел на мель». Друзья, на поддержку которых он рассчитывал, не поддержали. Впрочем, Ираклий их в этом и не винил. Они тоже были приезжими и отчаянно боролись за место под северным солнцем, таким неласковым, таким скупым. Виноваты были все остальные, и вечером, придя домой, Ираклий отводил душу. Московские партнеры представлялись ему скопищем всех человеческих грехов: глупые, ленивые, необязательные, лгущие на каждом шагу, готовые продать за копейку. С характеристики отдельных людей он как-то незаметно переходил на все общество, на всю страну, и получалось, что это Богом проклятое место, населенное порчеными людьми, у которых нет будущего. А уж тех, кто сочувствовал абхазцам, а не грузинам, Ираклий вообще за людей не считал! Их же тогда в Москве было немало, поэтому у Ираклия создавалось впечатление, что он живет во враждебном лагере. Жена советовала ему воздерживаться от политических дебатов, но он не мог, и в результате часто ругался с партнерами, что тоже не лучшим образом сказывалось на его делах.
Дато постоянно варился в атмосфере недовольства, напитывался ею, набирался слов и выражений, и однажды, повздорив с одноклассником, выдал все «по полной программе». Тот в ответ обозвал Дато обидным прозвищем и заявил, что «русским от них проходу нет» и что они «все квартиры скупили» (тоже, видно, дома напитался). Его поддержало еще несколько человек. Кто-то знал про рынки, оккупированные кавказцами, кто-то — про мафию... Короче, межнациональный конфликт завершился изрядной потасовкой. Дато в кровь разбили нос, но самое обидное было не это, а слова одного мальчишки: «Не нравится в России — поезжай домой!». Как Дато ненавидел его в эту минуту! Как хотел крикнуть, что не нужна ему никакая Россия и что он хоть сейчас бы уехал, если б у него был дом! И что такого чудесного дома, какой был у него, ни у кого из них нет и никогда не будет...
После этого происшествия Дато притих, но эта тихость была настолько не в его характере, что настораживала еще больше, чем повышенная возбудимость. Он стал часто болеть, потерял интерес к учебе и даже игрой его трудно было развлечь.
Однажды, когда он лежал простуженный с обычным теперь для него угрюмым выражением лица, Манана, у которой давно уже сердце разрывалось от жалости к нему, спросила:
— Что для тебя сделать, сынок? Что ты хочешь?
И вдруг услышала в ответ:
— Умереть.
И поняла, что он сказал правду...
Вечером у отца с сыном состоялся мужской разговор. Ираклий напомнил Дато славную историю предков, подчеркнув, что мужчины в их роду никогда не сдавались, а стояли до последнего. И закончил свое отцовское наставление словами:
— Ты должен вырасти и вернуться. Вернуться, чтобы отомстить врагам и построить дом. На том самом месте, где стоял наш.
Дато слишком много пропустил, и его не аттестовали по основным предметам. Пришлось остаться на второй год.
Но нет худа без добра. В новом первом классе оказалось еще два мальчика-кавказца. Они быстро составили маленькую коалицию, которую Дато возглавил по праву старшинства. Вскоре отыскались и покровители из подростковой среды, тоже недавно с Кавказа. У каждого за спиной были позор и трагедия бегства, а в сердце уже пробудилась и все громче заявляла о себе неутоленная жажда мести. Но поскольку реальные враги были недосягаемы, агрессия ребят частенько выплескивалась на врагов мнимых — ни в чем не повинных московских школьников. И в этом не было национальной специфики. Очень многие люди, будучи не в силах дать отпор обидчику, берут реванш в отношениях с более слабыми...
— Можете не продолжать! — скажет читатель.— Финал и так ясен.
Парни образовали «преступную группировку» по национальному признаку.
Но мы не будем продолжать сюжет вовсе не поэтому. Не столь принципиально, на наш взгляд, чем эта история закончится: образованием невинного землячества или банды малолетних преступников. А что же тогда важно? Мы думаем, само появление в нашем обществе значительного числа людей, которые живут без установки на подлинную адаптацию. Раньше у нас так себя чувствовали только иностранцы. Но, во-первых, их было мало, а во-вторых, степень их интегрированности в общество была ничтожной. К примеру, политэмигранты-чилийцы не владели в Москве разветвленной сетью аптек или фруктовых ларьков, не боролись за разделение сфер влияния в какой-либо из отраслей промышленности, не шли в политику. А «дети (да и взрослые!) разных народов», жившие в СССР, не ощущали себя, приезжая в Москву и шире — в Россию — ни беженцами, ни представителями другого, часто враждебного государства. Проявления бытового национализма, конечно, были и тогда, но они не подкреплялись государственными установками. И тем более не могли перерасти в антагонизмы политические.
Теперь же в этом отношении мы — как на пороховой бочке. А те, кто чрезмерно заигрался в политические игры, еще и норовят поднести к ней зажженный фитиль.
Рома
Рома с самого раннего детства был странным ребенком. Странным — это, пожалуй, мягко сказано. Он был психически больным. Как правило, такой факт становится очевидным для родителей в последнюю очередь. И это понятно. Слишком страшно произнести слово «шизофрения» по отношению к своему сыну. Слишком безысходно.
Но у Роминых родителей хватило мужества посмотреть на болезнь ребенка открытыми глазами. С пяти лет он постоянно наблюдался у психиатра, стоял на учете в районном психо-неврологическом диспансере и периодически лежал в больнице.
Но потом разразилась перестройка, и одной из ведущих тем в нашей печати стала тема советской карательной психиатрии, действительно серьезная, и для людей, прошедших через этот кошмар, болезненная. Однако тут же нашлись и любители подзаработать на «чернухе», в результате чего появилась куча статей и телепередач, изображающих всех советских психиатров как чекистов в белых халатах.
Помнится, на Всемирном психиатрическом конгрессе в одной из европейских стран мы, еще не успев заглянуть в программку, поняли, какие доклады будут делать наши отечественные «спецы». Поняли по их физиономиям. Было видно, что при старой конъюнктуре они основательно изучили вопрос карательной психиатрии изнутри (естественно, не в роли жертв). Ну а при новой, когда стало выгодно обличать, с успехом выступили в роли обличителей.
Вы думаете, это лирическое отступление? Отнюдь! Дело в том, что важнейшим последствием разоблачительной кампании стала дискредитация психиатрии вообще и детской психиатрии (которая уж никакого отношения к карательной не имела!) в частности.
И на судьбе Ромы все это не замедлило сказаться. Школу он, находясь на домашнем обучении, не посещал, друзей в силу психических особенностей не имел и заполнял свободное время газетами и телевизором, жадно поглощая все то, чем тогда пичкали неискушенного обывателя. Вскоре мальчик наотрез отказался принимать лекарства, которые годами поддерживали его в более или менее стабильном состоянии, заявив, что это психотропное оружие. Родители пытались всеми правдами и неправдами впихнуть в него нужные таблетки, но он разгадывал их хитрости и кричал, что они нарушают права человека. А врача, который искренне волновался за его здоровье, в глаза назвал чекистом и сказал, что больше не придет к нему никогда.
И в самом деле не пришел.
Жизнь Роминых родителей — и без того не сладкая — превратилась в кромешный ад. Состояние больного подростка резко ухудшилось, он не пускал в дом учителей, тема карательной психиатрии стала основным содержанием его бреда. Себя он теперь мнил диссидентом, которого за его вольнолюбивые убеждения довели до инвалидности. Районный врач в этом бреду представал генералом КГБ. Ну а папа с мамой — агентами, в задачу которых входило выведывать информацию у сына и планомерно разрушать его психику.
Визит к врачу, понятное дело, приравнивался к допросу, так что об этом теперь нельзя было даже заикнуться, но родители все же в особо трудные минуты потихоньку обращались к «генералу», и тот по старой памяти давал им советы, как справиться с разбушевавшимся «инакомыслом».
Но потом Рома вырос, и его карту перенесли во взрослый психо-неврологический диспансер. Там врач уже при всем желании не мог дать заочный совет родителям, потому что никогда не видел своего пациента. А когда Роме исполнилось шестнадцать, он пришел в диспансер, но вовсе не для того, чтобы посетить врача, а чтобы... сняться с учета. Ведь по новым демократическим правилам учет у психиатра стал делом добровольным. Если, конечно, больной не социально опасен и не угрожает собственной жизни. Ну а кинется на кого-то с ножом или в петлю полезет — тогда другое дело. Жертве, правда, такая логика вряд ли придется по вкусу, но на всех не угодишь. Идеал, как известно, недостижим.
В общем, Рома числился теперь в здоровых. При этом он перестал мыться, застегивать штаны, выходить на улицу, разговаривать. О какой-либо работе, даже самой примитивной, не могло быть и речи. А вопрос о деньгах стоял уже очень остро, потому что снятие с учета автоматически повлекло за собой снятие инвалидности, и семья лишилась пособия, которое, между прочим, играло не последнюю роль в бюджете, поскольку Ромина мать неотлучно находилась при сыне, а зарабатывал только отец.
Вскоре отец, которому не было и пятидесяти, умер от обширного инфаркта. Мать обменяла двухкомнатную квартиру на однокомнатную и надеется, что вырученных денег ей с сыном на несколько лет жизни хватит. О дальнейшем она старается не думать, ведь тогда неизбежно придется представить себе будущее, в котором Рома останется один...
О правах человека и тем паче о карательной психиатрии с этой женщиной лучше не заговаривать. Она может стать социально опасной.
Вместо последней истории
Наверное, сразу возникает вопрос: почему «вместо»? Где последняя история? Да в том-то и дело, что им, этим историям, нет конца. У нас и было их накоплено в голове гораздо больше, чем вы прочитали, а уж сколько новых появилось за время написания...
Мы не рассказали про девочку, которую украли, чтобы потребовать с родителей выкуп.
И про мальчика, который оказался за границей, потому что его отец, владелец инвестиционной компании, ограбил массу людей (в том числе приятелей) и бежал от кредиторов, но был настигнут на другом континенте наемным убийцей.
И про маленького затворника, который месяцами живет с гувернером в загородном коттедже, не смея шагу ступить за ворота.
И про игрока, проигравшего в рулетку квартиру, машину и дочь.
И про ребенка, который стал инвалидом, потому что у родителей не нашлось денег на его лечение.
И про подростка, затянутого в секту.
И про детей, чья мать свихнулась на почве оккультизма.
И про компанию старшеклассников, которые не вернулись с дискотеки, потому что их там расстреляли бандиты, выяснявшие между собой отношения.
Об этом и о многом другом мы не рассказали вовсе не потому, что торопились закончить книгу или нам было лень. Нет!
Просто, как нам кажется, для людей с неповрежденной совестью и сказанного довольно. Остальным же (надеемся, их число невелико) хоть двести историй расскажи — они не дрогнут, у них на все найдется ответ. Но на них мы и не рассчитываем.
— Вам-то хорошо,— уныло возразит представитель воображаемого большинства.— Вы пишете, выступаете. А я... что я могу?
Скажет — и успокоится, оправдав своей немощью попустительство злу.
Вопрос «Что я могу?» стОит задать себе не риторически, а всерьез, чтобы, собрав силы, сосредоточившись, получить от себя же настоящий ответ. Ответ, который будет проекцией ответственности.
Груз ответственности не только бремя, но и защита. Посмотрите на черепаху: она еле тащится под тяжкой ношей своего панциря, а сними с нее панцирь — погибнет.
 Вконтакте
Вконтакте Facebook
Facebook